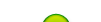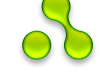СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА В «БЕСЕДАХ О КНИГАХ»
Я. ИВАШКЕВИЧА
 Многообразное творческое наследие старейшины современной польской литературы Ярослава Ивашкевича, отмеченное за шесть десятилетий его писательской деятельности большими свершениями во всех её жанрах, в течение последних 20 лет регулярно пополнялось публикуемыми в воскресных выпусках газеты «Жиче Варшавы» (одной из самых популярных в Польше) «Беседами о книгах». Свыше 900 напечатанных к настоящему времени фельетонов Я. Ивашкевича (этот термин писатель употребляет в его первоначальном значении, не связанном с одной лишь сатирической трактовкой темы) содержат огромный материал, раскрывающий богатейшую интеллектуальную и духовную жизнь их автора, его размышления о литературе, музыке, живописи, театре… Впрочем, энциклопедизм его знаний и страстный интерес к миру, к жизни не позволяют исчерпывающим образом охарактеризовать тематику его выступлений. Она безгранична, как вся гуманистическая культура, пропагандистом и певцом которой давно уже стал Ярослав Ивашкевич.
Многообразное творческое наследие старейшины современной польской литературы Ярослава Ивашкевича, отмеченное за шесть десятилетий его писательской деятельности большими свершениями во всех её жанрах, в течение последних 20 лет регулярно пополнялось публикуемыми в воскресных выпусках газеты «Жиче Варшавы» (одной из самых популярных в Польше) «Беседами о книгах». Свыше 900 напечатанных к настоящему времени фельетонов Я. Ивашкевича (этот термин писатель употребляет в его первоначальном значении, не связанном с одной лишь сатирической трактовкой темы) содержат огромный материал, раскрывающий богатейшую интеллектуальную и духовную жизнь их автора, его размышления о литературе, музыке, живописи, театре… Впрочем, энциклопедизм его знаний и страстный интерес к миру, к жизни не позволяют исчерпывающим образом охарактеризовать тематику его выступлений. Она безгранична, как вся гуманистическая культура, пропагандистом и певцом которой давно уже стал Ярослав Ивашкевич.
Тем более несправедливым представляется отсутствие должного внимания критики к этому важному разделу творчества ветерана польского искусства слова. В последней по времени издания польской монографии о писателе [1] «Беседам» посвящено несколько строк чисто информационного характера, а в лучшей работе об Ивашкевиче-поэте [2] они фигурируют лишь в одной из сносок. К сожалению, и советские литературоведы-полонисты, несмотря на опубликование в «Иностранной литературе» (№ 4 за 1975 г. и № 12 за 1976 г.) переводов нескольких «Бесед о книгах», об этой стороне общественно-литературной деятельности Я. Ивашкевича не писали и в новейшей посвящённой ему обзорной статье В. В. Витт упоминаний о ней мы не встретим.[3] Между тем разговор, который ведет со страниц «Жиче Варшавы» Я. Ивашкевич с самой массовой аудиторией, чрезвычайно интересен и поучителен. «Беседы о книгах» — это не маргиналии, второстепенный участок творчества, а главная в последние годы форма пропаганды писателем идей и художественных богатств мировой культуры.
Со скромностью всякого истинно большого человека писатель говорит: «Эти мои „беседы” я веду не как критик (и уж тем более не как председатель Союза литераторов), а как обычный читатель. Я рассказываю в них о прочитанном и о том, что подумалось мне в связи с прочитанным».[4] Действительно, вобрав в себя черты читательского дневника, рецензии, эссе, автобиографического, мемуарного, путевого или публицистического очерка, они выглядят именно покоряющими своей непосредственностью и доверительностью интонаций беседами, в которых есть место и грусти, и гневу, и глубокому размышлению, и улыбке. Важный документ писательской мысли, фиксирующий раздумья Я. Ивашкевича о творчестве, художественном мастерстве, критике, «Беседы» в то же время содержат ценный автобиографический материал, важный для всех исследователей долгого и славного пути одного из крупнейших современных писателей.
Стихи, проза, драматургия, критика — равно подвластные Я. Ивашкевичу средства раскрытия его богатейшей творческой личности. И «Беседы о книгах», тяготеющие к жанру критических выступлений, — это та «критика как литература», о которой яркое слово сказал своей последней книгой Б. И. Бурсов.[5] Отсутствие «ученой» терминологии, штампов критического мышления и письма, образность языка делают «Беседы» органичной частью литературного наследия Ивашкевича. Вот начало одной из них («Философия архитектуры»), в которой — даже не зная Я. Ивашкевича — автора «Восьмистиший» и «Дионисий» — вы ощутите руку поэта: «Удивительное это искусство — архитектура! Одним своим крылом оно касается строительного дела и даже простого ремесла, а другим устремляется в высоты поэзии, равняется с музыкой и будоражит воображение причудами математических расчётов, игрой плоскостей и пропорций».[6]
В 20 — 30-е годы, находясь на дипломатической службе, Я. Ивашкевич неоднократно посещал и хорошо изучил многие европейские страны. Любимые им «уголки Европы» — Сицилия, Рим, Дания, Швейцария — стали впоследствии местом действия его рассказов и темой очерковых циклов. Они часто упоминаются в «Беседах о книгах», неизменно оставаясь в поле зрения их давнего друга. Но при всем полицентризме культурных интересов Ивашкевича главным полюсом его пристрастий остаются Украина и Россия. Здесь он родился, здесь — в Кальнике, Елисаветграде и Киеве — прошли его детство, отрочество и юность, здесь — по-русски, по-украински и по-польски — сочинял он свои первые стихи и драмы. Здесь начинается повествование «главной книги» Ярослава Ивашкевича — эпической трилогии «Честь и слава».
Но, разумеется, не только привязанность к дорогим с рождения местам, где складывалась его человеческая и художественная личность, объясняет тот факт, что в «Беседах о книгах» темы, связанные с историей и культурой народов СССР (России, Украины, Белоруссии, Литвы, Армении и т. д.), численно преобладают, уступая законное первенство лишь польской теме. Нравственная высота и художественное совершенство русской культуры стали для писателя высшими критериями гуманистического творчества. Восторженный почитатель и хранитель богатейших духовных традиций Европы, он в то же время решительно отвергает идеи «средиземноморского евроцентризма», говоря, что «Западная Европа уже многие века совершает ту ошибку, что видит лишь себя не только в центре мировых проблем, но и в средоточии внутренней жизни каждого писателя».[7] В этом же фельетоне «Грехи Европы» Я. Ивашкевич отмечает: «Европа у этих писателей (больших французских писателей, последним из которых был, пожалуй, Андре Мальро) выглядит какой-то ущербной и неполной. Европа, от которой отрезана её восточная часть, это не подлинная Европа. А они, зная проблемы, муки и страдания своей Европы, абсолютно не принимают во внимание того, что является содержанием нашей борьбы, нашими потерями и завоеваниями, нашей победой… Можно лишь глубоко сожалеть, что А. Камю и другие видные французские писатели… не нашли пути к «Пану Тадеушу», «Евгению Онегину», а также к «Пеплу», «Войне и миру», «Тихому Дону», «Доктору Живаго»…».
Я. Ивашкевичу не пришлось искать этого пути — «кристальная чистота» пушкинского слова, «великий реализм» Л. Толстого, «душевная прозорливость» Чехова (определения взяты из «Бесед о книгах»), по словам писателя, навсегда очаровали его душу, сделали их верными спутниками его размышлений о жизни и литературе. Вот одно из них, вызванное впечатлениями от последних польских изданий антологий французской и русской новеллы: «Нужно признать, что повествование в русских рассказах, их трактовка тем, их изящество и точность ставят эти произведения много выше рассказов французских. Например, если речь идет о знаменитом „entrée en matière”, начале рассказа, — известные „зачины” повествования у Толстого или Пушкина гораздо энергичнее, ярче и содержательнее, чем, скажем, у Бальзака. Даже Чехов в своих „началах” дает замечательные фразы, напоминающие первые темы фуг И. С. Баха (вспомните начало его рассказа „О любви”)».[8]
Вершины русской культуры — Пушкин, Толстой, Чехов, Мусоргский, Чайковский — это как бы высокая горная цепь, обрамляющая интеллектуальную панораму многих «Бесед». К ним Я. Ивашкевич возвращается неоднократно, с ними сопоставляются лучшие достижения национального и мирового творчества, но ими вовсе не ограничивается интерес писателя к нашей культуре. «Слово о полку Игореве», Симеон Полоцкий, Каролина Павлова, мастера русского балета, книга искусствоведа Павла Муратова «Образы Италии», открытие портрета Мицкевича кисти Ореста Кипренского, — вот темы некоторых «Бесед» Ивашкевича, показывающие, как дорого ему всё — великое и скромное — в нашем культурном наследии.
Преемница этих богатейших и славных традиций — советская культура закономерно оказывается объектом пристального и доброжелательного (хотя и вовсе не бескритичного) внимания писателя. Один из её зачинателей — В. Брюсов, может быть, несколько неожиданно для нас, оживает в памяти Я. Ивашкевича как автор «недостаточно известной и достойной интереса, чрезвычайно разнообразной прозы». Отмечая среди рассказов В. Брюсова «подлинный шедевр», каким, по мнению создателя «Березняка», является новелла «В зеркале», вызвавшая в свое время похвалу А. А. Блока, он горячо рекомендует «многостороннего русского автора» польским читателям.[9]
А вот строки поэта и о поэте («Новые целлофановые томики»): «Этот волнующий, ласкающий и поражающий тонкостью стихотворства, а моментами потрясающий красотой и глубиной поэтического чувства томик — стихи Анны Ахматовой.
Ее поэзия неповторима: необычайная точность и зоркость видения, свобода образных ассоциаций, сочетающих внешне далекие друг от друга понятия и вещи, создают в её стихах то внутреннее напряжение, ту специфическую интонацию „внутренней речи”, „innere Stimme”, как называл это Роберт Шуман, по которой одну-единственную строчку Ахматовой распознаешь среди тысячи других. Здесь, несомненно, существует какое-то сходство и родство с другой необычной поэтессой — нашей М. Павликовской-Ясножевской. Недаром так великолепно звучат переводы стихов Павликовской, выполненные именно А. Ахматовой.
…Предельно сжатая мысль-развязка выступает тут как итог драматически уплотнённого действия. Иногда — как в сонетах Шекспира — последнее двустишие заключает в себе суть, квинтэссенцию всего стихотворения. Так неожиданно возникает эхо переклички между собой поэтов разных эпох и разных миров. И разных рангов. Но поэзия существует только одна, как одна бывает на свете любовь, смерть и морская волна. И, возможно, именно это — самое удивительное, о чём думаешь, читая один за другим томики „целлофановой серии” издательства ПИВ — Шекспира и Ахматову».[10]
Стихи А. Ахматовой стали фактом духовной биографии Я. Ивашкевича, о чем он — в несколько иной тональности — вспоминал в другой своей «беседе» «Илла и Ахматова» («Илла» — это польская поэтесса Казимера Иллаковичувна): «Несколько лет назад свой цикл переводов из поэзии Анны Ахматовой я предварил „посвящением”, которое начиналось так:
Głowę mą olśniewa
Blask tamtego lata:
Iłłа i Achmatowa
Stoją jak dwa drzewa.
……………………..
……………………..
Stoją poetessy
Piękne i nieznośne...

Анна Андреевна, очевидно, читала эти строки, так как вскоре я получил от неё по почте томик её переводов с короткой надписью: „От одной из капризниц”. Она не только читала, но и верно поняла смысл последнего слова „nieznośne”… Это был мой единственный контакт с великой русской поэтессой.
«То лето» — это лето 1914 года, когда меня одновременно подхватили вихри поэзии и бураны истории… Мне как раз исполнилось 20 лет… Я писал уже тогда стихи и драмы и был сочинителем с многолетним опытом, хотя стихи слагались мной более или менее на детский манер, и вот тогда именно меня осенило. Осенило сознание, что будничный мир можно увидеть и воспринять так, как его видела поэтесса, с которой мне никогда не довелось лично познакомиться и в которую я был влюблен в течение всей своей жизни. Её лучшие фотографии стоят на моём письменном столе. Как она была прекрасна! И как отважно говорила она о таких — вроде бы, обычных — вещах:
Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает».[11]
Профессиональный музыкант, получивший образование в Киевской консерватории, автор важнейших для польского музыкознания монографий о И. С. Бахе, Ф. Шопене, К. Шимановском, Ярослав Ивашкевич часто посвящает «Беседы» своему любимому искусству и его людям.
 Его знакомство с Д. Д. Шостаковичем, которого писатель назвал «крупнейшим симфонистом современности» еще при жизни композитора, началось в 1927 г., когда дипломант Международного конкурса пианистов им. Шопена впервые был гостем в доме музыкального обозревателя газеты «Wiadomości Literackie». «Этой встрече, — вспоминает Ивашкевич, — обязан я обладанием экземпляра „Прелюдий и фуг” Шостаковича с очень милым посвящением автора… Подаренные мне прелюдии для фортепиано — неисчерпаемая сокровищница музыкальных идей, иной раз удивительно объединяющих принципы русской народной музыки с правилами самого строгого, точного и сложного контрапункта… Это композитор, который близок нам не только по происхождению, по крови, но и по складу всей своей натуры».[12]
Его знакомство с Д. Д. Шостаковичем, которого писатель назвал «крупнейшим симфонистом современности» еще при жизни композитора, началось в 1927 г., когда дипломант Международного конкурса пианистов им. Шопена впервые был гостем в доме музыкального обозревателя газеты «Wiadomości Literackie». «Этой встрече, — вспоминает Ивашкевич, — обязан я обладанием экземпляра „Прелюдий и фуг” Шостаковича с очень милым посвящением автора… Подаренные мне прелюдии для фортепиано — неисчерпаемая сокровищница музыкальных идей, иной раз удивительно объединяющих принципы русской народной музыки с правилами самого строгого, точного и сложного контрапункта… Это композитор, который близок нам не только по происхождению, по крови, но и по складу всей своей натуры».[12]
С искусством другого выдающегося советского музыканта — пианиста С. Т. Рихтера связано признание, которое в устах Я. Ивашкевича — искушенного знатока фортепиано и ансамблевого исполнительства — поистине дорогого стоит («Песни Мёрике»): «Концерт, в котором песни Хуго Вольфа исполнял Дитрих Фишер-Дискау под „аккомпанемент" Святослава Рихтера, для многих варшавских слушателей стал величайшим музыкальным событием в их жизни — для меня также… Поэты, такие, как Тютчев и Фет, Эйхендорф и Мёрике, — отсутствие которых так сильно ощущается в поэзии нашего XX века — будут жить вечно не только благодаря себе, но и благодаря тем музыкантам, мелодии которых так часто сливаются с их стихами в единое и совершенное целое. А какие возможности открывает такое слияние поэзии с музыкой, показали нам на концерте недостижимый Дискау и просто поразительный в своем совершенстве и предельной скромности Рихтер. Их концерт стал демонстрацией того, чем была музыка в XIX веке, какую роль она играла, а, может быть, и вообще — что такое музыка…». [13] 
Самые близкие Я. Ивашкевичу натуры — это люди высокого духа и интеллекта, бескорыстия и увлечённости, которых он с радостью открывает повсюду, в том числе и среди математиков: «Удивительно, как легко рождается между писателями и математиками нечто вроде взаимопонимания и симпатии. Почему? Потому что, вообще говоря, математика — еще одно искусство, которое недаром в древней Греции имело собственную музу. При анализе математических 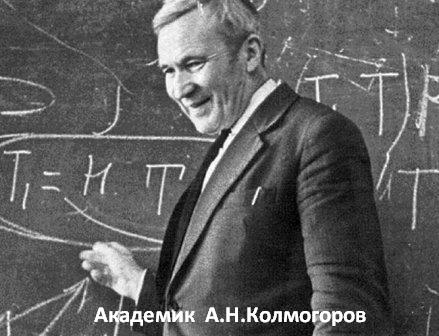 исследований, открытий, создании новых теорий из уст математиков так часто вырывается знакомое нам определение „подлинная красота”… А связь математики с музыкой, которая временами обнаруживается так ясно и усиливает в нас эту симпатию! Никогда не забуду сцену в римском дворце Квиринале, где получал премию имени Больцано выдающийся советский математик А. Н. Колмогоров. Здесь ему вручили эту великолепную награду, здесь беседовал с ним президент Сеньи, вот-вот в зал должен был войти папа Иоанн XXIII, а он, единственный из всех собравшихся, был без остатка погружен в слушанье эмфатического секстета Франко Альфано, исполнявшегося на хорах этого величественного зала. Лицо его выражало блаженство, он слегка притоптывал в такт ногами и весь был „в музыке”…».[14]
исследований, открытий, создании новых теорий из уст математиков так часто вырывается знакомое нам определение „подлинная красота”… А связь математики с музыкой, которая временами обнаруживается так ясно и усиливает в нас эту симпатию! Никогда не забуду сцену в римском дворце Квиринале, где получал премию имени Больцано выдающийся советский математик А. Н. Колмогоров. Здесь ему вручили эту великолепную награду, здесь беседовал с ним президент Сеньи, вот-вот в зал должен был войти папа Иоанн XXIII, а он, единственный из всех собравшихся, был без остатка погружен в слушанье эмфатического секстета Франко Альфано, исполнявшегося на хорах этого величественного зала. Лицо его выражало блаженство, он слегка притоптывал в такт ногами и весь был „в музыке”…».[14]
Тем же искренним чувством душевной расположенности и глубокого уважения отмечены в «Беседах» Ивашкевича портретные зарисовки его украинского друга, академика М. Ф. Рыльcкого, писательницы М. С. Шагинян, пианиста и педагога Г. Г. Нейгауза и других дорогих ему людей советской культуры.
Но тот, кто предположил бы, что пиетет Я. Ивашкевича перед нашей литературой и культурой исключает или ограничивает критицизм его суждений, был бы далек от истины. Автор «Бесед о книгах» — из числа тех людей «действительно просвещённых, за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести».[15] Работа М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» получила европейскую известность, но это не помешало Я. Ивашкевичу выступить против главного термина исследователя — «полифония» (М. Бахтин настаивал, что это не метафора!) как «живьём» перенесённого из музыковедения в науку о литературе, где, по мнению польского писателя, «одновременное звучание параллельно развивающихся голосов-тем» невозможно в силу гомофонии и линеарности печатной строки. А возрождение теории «единства всех искусств», к чему ведёт свободное заимствование и использование их терминов, по мысли Ивашкевича, не сулит особого успеха её теоретикам и практикам. Умная ирония (частый спутник его выступлений) сквозит и в высказывании автора, что учение М. Бахтина о мениппеи и карнавальной традиции в литературе представляется ему скорее «плодом радостного и увлечённого творчества, чем научным доказательством».[16] В другом случае, отмечая выдающиеся заслуги перед славянской культурой проф. Игоря Белзы, Я. Ивашкевич решительно и страстно полемизирует с ним по поводу ряда положений его монографии о Фридерике Шопене.[17]
Отдавая должное писательскому таланту М. А. Булгакова, Я. Ивашкевич откровенно признаётся, что у него «не лежит душа» к роману «Белая гвардия»: «Воспитанный и получивший образование в том же самом Киеве, я пребывал в нём в другой среде (и не только польской). В этой среде не пользовались особой симпатией генералы, юнкера и кадеты, а также попы и дьяконы, служившие бесконечные всенощни, заутрени и обедни в чудесных киевских церквах. …Подлинным героем „Белой гвардии” является, однако, Город. Нигде не названный своим подлинным именем, зимний, засыпанный и укутанный снегом, скованный морозом Киев живет на страницах романа Булгакова, вызванный из прошлого талантом и любовью автора. Он возвращается к воспоминаниям о Киеве как к памяти молодых лет, как к живительному источнику. Эта любовь к Городу притупляет неприятные для нас нотки авторского повествования, поскольку насыщает книгу глубоким человеческим чувством».[18]
Взаимосвязи польской и русской культур — один из важнейших лейтмотивов «Бесед». Писатель не только констатирует общие и частные явления, подтверждающие их кровное родство, но как убежденный интернационалист призывает к сплочению усилий польских и советских исследователей, занятых разработкой «пограничных» или взаимно важных тем, будь то жизнь и творчество крупнейшего польского композитора XX века Кароля Шимановcкого, долгие годы жившего на Украине,[19] польская и русская поэзия начала нашего столетия (по словам Я. Ивашкевича, «в этот период поэтические течения в Польше и России взаимно переплетались, их притоки насыщались достижениями и открытиями соседей, и именно это сочетание встречных воздействий и влияний породило исключительную поэтическую плодоносность того времени»[20]) или любопытная, по его мнению, параллель — женские образы у С. Жеромского и у И. А. Бунина.[21]
Именно в благородном стремлении равняться на высшие достижения советской культуры и внимательно вдумываться в её опыт автор «Бесед» раскрывает себя как глава литературного движения в Польше, о котором он не перестаёт думать и знакомясь, скажем, с новой книгой, пришедшей из СССР: «Недавно я прочитал выдающееся произведение русской литературы, способное по многим соображениям заинтересовать и нас. Я имею в виду роман Георгия Маркова „Сибирь”, удостоенный Ленинской премии. Это масштабная фреска, рисующая предреволюционную хозяйственную и духовную жизнь той земли, о которой ещё Ломоносов сказал: „Российское могущество прирастать будет Сибирью”… Г. М. Марков сознательно настраивает свою лиру на эпический лад и с самого начала ударяет по струнам, которых мы давно уже не слышали в русской литературе и которые у нас умолкли совершенно. Между прочим, именно „Сибирь” показывает специфику современной советской литературы и то, сколь ценно сохранение особенностей каждой отдельной национальной литературы… После многих перипетий и приключений герои романа — влюблённые подпольщики Акимов и Катя — встречаются, и — что важнее всего — Акимов, пережив немало сомнений и колебаний, напоминающих смятение Юдыма,[22] не отказывается от личного счастья, к немалому удовольствию наших читателей, всегда болезненно вспоминающих о „раздвоенной сосне"[23]… Для нас не безразлично, что Г. Марков, прекрасно знающий Сибирь, хорошо понимает, какую роль сыграли в её судьбе польские ссыльные и потомки повстанцев 1863 года! …Прекрасные образы поляков в романе обращают внимание на нашу роль в жизни этого удивительного края. Думается, стоило бы написать серьёзную работу о роли поляков в судьбах Восточной и Западной Сибири. Роль эта была значительной и вела по пути прогресса».[24]
Обычно Ивашкевич в «Беседах о книгах» остерегается патетики, но когда предмет изложения захватывает и вдохновляет его, как любимый роман писателя, «Тихий Дон», его монолог превращается в настоящий гимн замечательному созданию литературы и шолоховскому реализму: «Всякий раз, когда я возвращаюсь к „Тихому Дону” — а случается это довольно часто, — меня потрясает своеобразие шолоховского мастерства, к которому невозможно привыкнуть и которое неизменно захватывает читателя с той чудодейственной, без остатка пленяющей воображение силой, какую мы ощущаем лишь при общении с величайшими творениями искусства. Разумеется, глубокое внутреннее содержание этого произведения — а содержанием его является любовь к человеку и тончайшее проникновение в существо всех истоков человеческих чувств и поступков — доносится до нас с помощью изобразительных средств, словесных конструкций, обладающих необычайной убедительностью… Весь этот огромный мир, который показывает нам Шолохов в, казалось бы, тесных рамках долины Тихого Дона, наполнен таким истинно гуманистическим содержанием, какое редкому художнику удаётся сконденсировать и выразить. В конечном счете „Тихий Дон” является романом об очень простых и обыкновенных людях… На этой гармонии слова с правдой человеческих переживаний и с правдой картин природы зиждется проникновенный реализм Шолохова… Взлёты и падения его героев — не литературная „выдумка”, они всегда — следствие глубоких прозрений художника в закономерности психологии созданных им героев».[25]
В недавнем интервью, данном корреспонденту болгарской газеты «Народна култура», Я. Ивашкевич сказал: «В укреплении мира на планете большая и почётная роль принадлежит литераторам, писателям. Чем лучше мы знаем друг друга, тем сильнее наша сплочённость. Глубоко проникая в процессы, характеризующие культуру братских народов, мы таким образом укрепляем дружбу, дороже которой нет ничего на свете».[26]
Этой высокой цели служат и «Беседы о книгах» Ярослава Ивашкевича — писателя, по праву носящего звание лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».
1977 г. М.П.МАЛЬКОВ
[1] Gronczewski A. Jarosław Iwaszkiewicz. Warszawa, 1974. S. 42.
[2] Kwiatkowski J. Poezja J. Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa, 1975.
[3] Писатели Народной Польши. М., 1976.
[4] Książki o pisarzach // Życie Warszawy. 1965. 12. IX.
[5] Бурсов Б. И. Критика как литература. Л., 1976.
[6] Filozofia architektury // Życie Warszawy. 1977. 13. II.
[7] Grzechy Europy // Życie Warszawy. 1977. 6. XI.
[8] Nоwе1е // Życie Warszawy. 1975. 14. XII.
[9] Nоwе1е // Życie Warszawy. 1976. 19. IV.
[10] Nоwe celofany // Życie Warszawy. 1973. 7. X.
[11] Iłła i Achmatowa // Życie Warszawy. 1974. 17. VIII.
[12] Szostakowicz // Życie Warszawy. 1975. 29. IX.
[13] Mörike Lieder // Życie Warszawy. 1973. 14. X.
[14] Matematycy // Życie Warszawy. 1969. 22. I.
[15] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 391.
[16] Poetyka Dostojewskiego // Życie Warszawy. 1974. 18. III.
[17] Beethoven i Chopin // Życie Warszawy. 1970. 8. I.
[18] Вiała Gwardia // Życie Warszawy. 1974. 24. XII.
[19] О Szymanowskim // Życie Warszawy. 1975. 9. II.
[20] Symbolizm // Życie Warszawy. 1976. 12. IX.
[21] Żerоmski // Życie Warszawy. 1975. 15. VII.
[22] Герой романа «Бездомные» С. Жеромского.
[23] «Rozdarta sosna» — символ противоречивости чувств Т. Юдыма.
[24] Sybir // Życie Warszawy. 1976. 12. VI.
[25] Cichy Don // Życie Warszawy. 1974. 10. XII.
[26] «Народна култура». 1977. 18. III.