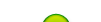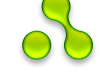Школу Жеромского прошли и с гордостью говорили об этом два крупнейших мастера новой польской литературы, совсем недавно ушедшие от нас, — Марья Домбровская и Ярослав Ивашкевич. М. Домбровская, писательскую славу которой обеспечили прежде всего эпические произведения, представлена здесь впервые публикуемой на русском новеллой "Стёклышко" из сборника "Признаки жизни" (1938). Хотя драматическая судьба революционеров-подпольщиков, узников царских тюрем после разгрома выступлений 1905 — 1907 годов запечатлена во многих произведениях С. Жеромского, А. Немоевского, А. Струга, Г. Даниловского, рассказ писательницы выдерживает сравнение с лучшими страницами этой прозы.
Школу Жеромского прошли и с гордостью говорили об этом два крупнейших мастера новой польской литературы, совсем недавно ушедшие от нас, — Марья Домбровская и Ярослав Ивашкевич. М. Домбровская, писательскую славу которой обеспечили прежде всего эпические произведения, представлена здесь впервые публикуемой на русском новеллой "Стёклышко" из сборника "Признаки жизни" (1938). Хотя драматическая судьба революционеров-подпольщиков, узников царских тюрем после разгрома выступлений 1905 — 1907 годов запечатлена во многих произведениях С. Жеромского, А. Немоевского, А. Струга, Г. Даниловского, рассказ писательницы выдерживает сравнение с лучшими страницами этой прозы.
Повествование о том, как доведенный до предела отчаяния, до крайнего истощения душевных сил узник этого "мертвого дома" находит в своей камере осколок стекла, позволяющий в критический момент, вскрыв вены, вырваться из жизни и ставший для заключённого символом свободы, источником выдержки и терпения, отмечено теми чертами художественной манеры писательницы, о которых с восхищением писал известный польский критик и литературовед Казимеж Выка: "...Неброская фабула, значительный центральный характер, "незаметный" сам по себе язык — так проще всего определить те нормы, по которым литература претворяет действительность".[1]
Творческое наследие Ярослава Ивашкевича обогатило национальную культуру поляков всем уникальным многообразием художественных проявлений этой универсальной личности — поэта, драматурга, романиста, критика, эссеиста, музыковеда, театроведа, новеллиста... Каждый из разделов его деятельности по-своему значителен и ценен, а их синкретическая совокупность определяет оригинальность и неповторимость его таланта, но, думается, прав тот же К. Выка, сказавший: "Именно в жанре новеллы внутренние проблемы творчества Ивашкевича, проблемы художественной выразительности, волнующие писателя с первых шагов в литературе, приобрели стройность и слаженность".[2]
К утвердившим репутацию Ивашкевича-новеллиста произведениям- таким, как "Конгресс во Флоренции", "Битва на Сейджмурской равнине»,«Квартет Мендельсона», «Рассказ из страны папуасов», "Икар" и др., добавятся вещи, впервые приходящие к нашему читателю. Впрочем, с новеллами "Замужество Присциллы" и "Петербургская легенда" только недавно встретились и соотечественники писателя — они найдены в архиве Ивашкевича и опубликованы в томе его "Неизвестных произведений", вышедшем в Варшаве в 1986 году.
Созданный в самой середине нашего века (1950 г.) и посвящённый памяти выдающегося английского исследователя эллинской и древнеримской культур Уолтера Патера, сыгравшего немалую роль в духовном становлении Я. Ивашкевича, А. А. Блока и многих других европейских художников их поколения, рассказ "Замужество Присциллы" переносит нас в эпоху крушения Римской империи и зарождения христианской цивилизации, эпоху, так привлекавшую романтиков. Думается, именно теперь, острее, чем несколько десятилетий тому назад, когда в любимом им уголке польской земли — Сандомеже Ивашкевич набрасывал его строки, широкая аудитория способна оценить благородное гуманистическое звучание этого предания, призывающего к терпимости и взаимопониманию, необходимости понять других, а не отгораживаться от них в самонадеянном представлении о собственной монополии на обладание "всей истиной".
В многокрасочной палитре романтической новеллы, пожалуй, непременно должна присутствовать и такая её разновидность, как фантастический, "готический", "страшный" рассказ. Для корневой внутренней связи польского классика с миром русской культуры показательно, что его произведение этого рода названо "Петербургской легендой", в которой можно расслышать отзвуки мрачной фантастики Н. В. Гоголя ("Портрет") и гротесково-кошмарных сцен Ф. М. Достоевского (разговор Ивана с чёртом в "Братьях Карамазовых"). Своей притчей автор как бы предупреждает, что ни механистически-наивная концепция материальности мира, основанная на архаичном представлении о неделимости атома, ни более совершенная теория структуры материи, учитывающая открытия Нильса Бора и Эрнеста Резерфорда, не избавляют человеческое сознание — "свойство высокоорганизованной материи" — от конфронтации с новыми проблемами, ставящими людей перед множеством загадок и тайн, конечно, не из ряда тех, что поджидали героя в заброшенном особняке на петербургской набережной. Явственна здесь и тревога автора, вызванная опасностью безоглядного вмешательства науки в природу человеческого естества, что в эпоху "генной инженерии" вовсе не выглядит безудержным романтическим вымыслом.
"Верный читатель Жеромского", как называл себя сам Ивашкевич в рассказе "Voci di Roma",[3] без труда угадывается в создателе "Хайденрайха" — лучшей из новелл, вошедших в сборник "Зарудье", созданный к столетию январского восстания 1863 года. Здесь следование Жеромскому — не только в решимости "бередить национальные раны" (именно они, как правило, и оказываются "белыми пятнами", драматическими моментами нашей совместной — русско-польской — истории), но и в воспроизведении беспощадно правдивой картины жестокого насилия самодержавия, порознившего братские славянские народы, и объективной обречённости самого дела повстанцев 1863 года, в отсутствии той "патриотической" (а на деле — националистической) односторонности, с какой в ряде произведений польской литературы изображались русские в период январского восстания.
Как известно, в ходе национально-освободительной борьбы польского народа в 1863 —1864 годах члены русского тайного общества "Земля и воля", следуя идее А. И. Герцена: "Мы хотим независимости Польши, потому что хотим свободы России, мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих", — развернули агитацию в воинских частях, направленных для усмирения "мятежников", призывали русских солдат и офицеров обратить оружие против царского деспотизма. Многие члены "Комитета русских офицеров в Польше", возглавленного Андреем Потебнёй, перешли на сторону восставшего народа, конечно, понимая, сколь жертвенным является этот героический выбор.
Тему ложного и истинного долга, "официального" и подлинного патриотизма Ивашкевич намеренно заостряет, делая главным героем рассказа "немецкого романтика" Хайденрайха-Ворона, представителя той нации, которая вписала самые кровавые и черные страницы в историю многострадальной Польши, и сталкивая с ним в полной трагической иронии кульминационной сцене новеллы поручика Лауданьского, верного принесенной императору присяге и горделиво демонстрирующего "немчуре", "как сражается поляк"... помогая душителям свободы своего народа. Рисуя Ворона человеком полным душевного благородства, человеческого достоинства, глубокой проницательности и высокой чести, писатель стремится разрушить тот опасный "стереотип врага", который — вольно или невольно — проник в произведения родной для него литературы. В этом смысле показателен мимолетно возникающий на страницах книги портрет сподвижника Ворона, ополченца Вагнера — типичного "арийца", лицом которого любуется Хайденрайх, с болью думая об опасностях, грозящих жизни романтичного и обаятельного юноши в предстоящей битве под Жижином. Лучшие качества человека — доброту, справедливость, милосердие, совестливость, сохранённые наперекор всем трудным обстоятельствам братоубийственного конфликта, воплощает в новелле простой казак Подхалюзин. Эти высшие, общечеловеческие критерии оценки личности были воспитаны в Ивашкевиче его любимым классиком — Львом Николаевичем Толстым (как известно, автор "Войны и мира" особо отмечал в Н. С. Лескове: "Он одинаковых со мною взглядов, то есть любит людей, а не русских или немцев"[4]). По-толстовски же гневно и страстно — как "противное человеческому естеству состояние" — автор показывает в "Хайденрайхе" войну, организованное, насильственное, жестокое истребление людей, против угрозы которого неизменно поднимал свой голос почётный председатель Всемирного Совета Мира, лауреат международной Ленинской премии "За укрепление мира и дружбы между народами" Ярослав Ивашкевич.
Романтическую окраску творчеству Я. Ивашкевича придавали интенсивность, напряженность духовной жизни, страстные поиски истины, выражавшиеся зачастую в ярко эмоциональной, взрывчато-экспрессивной форме. В ряде его произведений ("Рассказ с собакой", "Рассказ с котом", да и в той же "Петербургской легенде") жизнь, изображённая во всех её реальных подробностях, внезапно, по законам романтического искусства, преображается, приобретает фантастическую невероятность, зловеще-призрачный характер. Читателей вряд ли удивит поэтому, что в одном из своих последних стихотворных циклов ("Старый поэт") он с радостью говорил о "возвращении романтизма" (так названо стихотворение) и исповедовался в любви к этому искусству, «воспевшему человека и человечность»:
...На фортепиано
свеча
за окном
ели
И так трудно дышать
от любви
к музыке к елям
к романтизму...[5]
 Любовь к человеку и вера в добрые начала разумного и созидательного бытия, которые призвана развивать в людях подлинная культура, одухотворяли и творчество современника Ивашкевича Яна Парандовского, глубокого знатока и блестящего популяризатора античной, французской, английской и отечественной литературы, большого мастера стиля, секретам которого посвящена его европейски известная книга о писательском труде "Алхимия слова", несколькими изданиями вышедшая и у нас в стране. В том, что перед нами "алхимик", чародей слова, читатель этой книги сможет убедиться, прочитав его рассказы из автобиографического сборника "Солнечные часы", включенные в антологию. Обманчивые своей внешней простотой изложения, мемуарные этюды-новеллы пленяют филигранной отделкой языка, прозрачного и чистого, как родниковая вода, в котором отразились прежде всего незамутнённая, романтически высокая вера автора в вечную жизнь красоты и гуманистического искусства ("Мона Лиза"), в подвиг «труда, необходимого во всяком творчестве» ("Крашевский"), глубокая надежда на то, что XX век принесет не варварское истребление накопленных человечеством духовных и культурных ценностей, а их приумножение и бережную память о прошлом ("Фонограф").
Любовь к человеку и вера в добрые начала разумного и созидательного бытия, которые призвана развивать в людях подлинная культура, одухотворяли и творчество современника Ивашкевича Яна Парандовского, глубокого знатока и блестящего популяризатора античной, французской, английской и отечественной литературы, большого мастера стиля, секретам которого посвящена его европейски известная книга о писательском труде "Алхимия слова", несколькими изданиями вышедшая и у нас в стране. В том, что перед нами "алхимик", чародей слова, читатель этой книги сможет убедиться, прочитав его рассказы из автобиографического сборника "Солнечные часы", включенные в антологию. Обманчивые своей внешней простотой изложения, мемуарные этюды-новеллы пленяют филигранной отделкой языка, прозрачного и чистого, как родниковая вода, в котором отразились прежде всего незамутнённая, романтически высокая вера автора в вечную жизнь красоты и гуманистического искусства ("Мона Лиза"), в подвиг «труда, необходимого во всяком творчестве» ("Крашевский"), глубокая надежда на то, что XX век принесет не варварское истребление накопленных человечеством духовных и культурных ценностей, а их приумножение и бережную память о прошлом ("Фонограф").

Книгу завершают рассказы репортера, журналиста и писателя Ксаверы Прушиньского, недолгая и яркая жизнь которого принесла польской литературе запавшие в души нескольких послевоенных поколений художественные свидетельства героической эпопеи борьбы поляков-интернационалистов с испанским фашизмом и гитлеризмом. Это новеллы, в которых правда документа творчески претворена в явление искусства (вплоть до фантастического воскрешения в годы второй мировой войны "отца" польского романтизма Иоахима Лелевеля в "Звезде Стойкости"), а явление искусства имеет ценность документа. В финале "Гранатовых чёток" рассказчик поднятым в традиционном приветствии антифашистов сжатым кулаком "рот-фронта" провожает в последний путь польского парня, которого позвали биться с врагами далекой республиканской Испании вдохновенные строчки "Гренады"... И не беда, что юноша не знал подлинного автора этой песни и считал им Юлиана Тувима, прекрасно воссоздавшего романтический и интернациональный дух стихотворения Михаила Аркадьевича Светлова. Главное, что в общей борьбе с фашизмом, как и некогда в истории («Варшавянка»), вновь породнились, побратались наши песни.
А как сказал поэт: "Минует всё, лишь песня уцелеет...". Сохранится и искусство, согретое горячим чувством добра к человеку и человечеству. И продолжится романтическая биография польской новеллы.
1988 г. М.Мальков