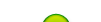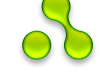ПЕВЕЦ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ[1]
ПЕВЕЦ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ[1]
Яркое писательское дарование, богатство и многообразие проявлений творческой личности Ярослава Ивашкевича (1894 — 1980) сделали плоды его более чем 65-летней художественной деятельности значительным вкладом как в польскую, так и в мировую культуру. Чувство единения с людьми, с миром, верность долгу художника перед народом и историей, ощущение глубокого духовного родства с гуманистической мировой культурой — определяющие черты его творческой натуры
Служение высоким идеалам гуманизма было для Я. Ивашкевича постоянным подтверждением его «верности себе», о которой он размышлял в стихотворении, написанном в середине его жизненного пути:
Что сделать с этой рифмой, чтобы вечность,
Которую хочу в стихе упрочить,
Вздымалась, прославляя человечность,
Как знамя на ветру в руке рабочей?
И где слова найти такие, ноты,
Чтоб на могиле смехом не звучали,
Чтоб, несмотря на беды и невзгоды,
Себе быть верным, верным, как вначале.[2]
Цельность пройденного писателем пути была порождена его «открытостью жизни», исходной для него потребностью контакта с широким миром, другими людьми. Сам Я. Ивашкевич выразил это так «Если я упрекаю самого себя в несовершенстве созданного мной, то одно могу за собой признать определенно: я никогда не писал без мысли о читателе. Моё писательское творчество всегда было диалогом...».[3]
* * *
Начав в 1912 году со стихов, названных зрелым Я. Ивашкевичем «седьмой водой на киселе русских символистов», писатель преодолел впоследствии искусы декаданса.
Художественным выражением идейного размежевания писателя с эстетством явилась всё более обнаруживающая себя в его творчестве тенденция к объективному осмыслению и воспроизведению окружающей действительности, к осознанию социально-исторической обусловленности мировоззрения его героев, к искусству типизации человеческих характеров и поступков, к реализму.
В романе «Хиляры, сын бухгалтера», созданном в период мощных социальных выступлений трудящихся в послеверсальской Польше (1922 г.), автор, стилистически еще остававшийся под воздействием модернистской манеры, уже сознает связь эстетского «чистого» искусства с заинтересованным в нём политическим строем, когда говорит о финале творческой судьбы Хиляры , готового свести счеты с позорной жизнью человека, купленного миром капитала: «Чужды стали ему ныне фабрика, деревня, мастерская, море, горы. Он смотрит на всё сквозь новую, буржуазную призму... Тогда, прежде, он действительно был поэтом, хотя не писал ни драм, ни стихов, а теперь он — литератор. И дьявол, бес «художественного» творчества, литературы, отплатит ему за измену себе иллюзией богатства, призраком славы и счастья».[4]
Действительность, реальная жизнь никогда не становились чуждыми другому сыну бухгалтера (это определение автобиографично) — Ярославу Ивашкевичу, поскольку, еще в молодости сформулировав цель своего творчества (в романе «Луна восходит») в словах: «познать мир, понять и выразить его»,— он оставался верен этой программе до конца своих дней и в поздние годы комментировал ее так: «...Писатель, несмотря ни на что, остаётся верным девизу «познать, понять, выразить», хотя сознаёт, что величие мира, сложность человеческой жизни, процесс развития гуманистической мысли превосходят возможности художника выразить их... Но он хорошо знает, что его усилия познать жизнь неизменно окупятся сторицей, и он никогда не насытит вдоволь своего жадного интереса к земным картинам и чувствам, земным запахам и цветам. Это пристрастие к повседневной жизни, желание глубже понять человека всегда положительно скажется на всех писательских начинаниях».[5]
Уже в 20-е годы сочувствие обездоленным и угнетённым, сознание невозможности для себя душевного покоя в мире, раздираемом социальными противоречиями, стали мотивами, знаменовавшими приход Я. Ивашкевича в искусство большой общественной темы. Строки из «Сентиментальных пейзажей» (1926), бунтарский, неудержимо страстный финал очерка «Весна в Париже», повествующего о встрече автора с несчастным слепым музыкантом,— свидетельства потрясения и отчаяния, которые испытал честный художник, видя бессилие красоты и культуры перед социальным уродством буржуазного мира: «Но для чего всё это — богатство, искусно отшлифованные камни, мудро вписанные в пейзажи колоннады, величественные здания, ансамбли фонтанов, для чего эти миллиарды умных и учёных книг, прекрасных, вдохновенных и великих книг; для чего этот весенний ветер и эти шумящие деревья, и щебет весёлых детишек вокруг, для чего радужная любовь, что, словно птица, поднимает на крыльях мою весну, для чего могущество чародейского нанизывания слов — если всё это не в силах заглушить на улице, в городе, на всём свете, в моём сердце, наконец, — страшное пение нищего слепца?».[6]
Испытания военных лет, трудовая героика периода восстановления страны и строительства послевоенной Польши во всем масштабе показали ему значительность рядового человека-гражданина: «...Больше всего я любил путешествовать в 1945-м и 1946-м годах. Ехать тогда приходилось на подножках вагона, на крыше, в почтовом автобусе — и каких людей доводилось встречать в то время, какие разговоры вести! Это было сразу после войны и оккупации, и как же я жалею, что не записал тогда по горячим следам всего услышанного во время таких бесед, извлечённых из них моральных уроков. Тогда человек действительно отдавал себе отчет, в какой стране живёт, с какими людьми имеет дело — суровыми, резкими, даже грубыми, а по сути дела, необычайно ценными, упорными и сильными. Лишь знакомясь с такими людьми, понимаешь, как это всё происходит «само собой»— и восстановление, и освоение возвращённых родине земель, и развитие индустрии, ну и наконец, тот невероятный прогресс на наших железных дорогах, который постепенно лишил меня возможности путешествовать в по-настоящему увлекательном обществе».[7] Эти герои приходят к нам со страниц послевоенной новеллистики Я. Ивашкевича («Мельница на Камённой», «Старый кирпичный завод», «Бегство Фелека Оконя» и др.).
Пройдя путь, который Поль Элюар определял словами: «от горизонта одного — к горизонту всех», Я. Ивашкевич сознавал свой писательский долг как часть общенародного дела служения отчизне. Польскому писателю, посвятившему немало страниц воссозданию мрачных картин действительности, драматических ситуаций, трудных человеческих судеб, принадлежали слова: «Я всегда стремился сказать читателю: „Может быть, я, действительно, грустен, но посмотри, как прекрасен мир!”»
В драматизме, щемящей грусти многих стихов и рассказов Я. Ивашкевича есть своя закономерность: писатель-гуманист особенно остро воспринимает скоротечность бытия, несовершенства, слабости и пороки людей, частую несправедливость судьбы, неотвратимость конца,— ведь и у любимых художников — наставников Я. Ивашкевича, какими были Юлиуш Словацкий, Стефан Жеромский, Лев Толстой, Антон Чехов, Иван Бунин, вы почти не встретите счастливых финалов, удовлетворённых собой и жизнью героев. Важно, что эта грусть не парализует волю, не гасит светлых человеческих порывов, а заряжает энергией противодействия злу и жизнелюбием, недаром в предисловии к украинскому изданию «Избранного» Ярослава Ивашкевича Дмитро Павлычко заметил: «Мне представляется, что в умении превращать скорбь и печаль в любовь к жизни этот художник не имеет равных себе».[8]
В этой тональности написан рассказ «Билек», одно из последних произведений писателя. Сопоставление истории лошади — старого коня по кличке Билек — и судьбы его хозяина, пана Игнация (одиноких существ, взаимная привязанность и верность которых скрашивают последние дни их бытия в окружении тех, кто утратил «душу живу», разорвал связь с землей и природой, делячеством и практицизмом истребил в себе сострадание, милосердие и доброту), весь строй этого повествования ассоциируются с атмосферой толстовской, чеховской, бунинской прозы, с гуманистическим пафосом классического наследия тех мастеров, которых Я. Ивашкевич с любовью переводил на родной язык, чьей нравственной высотой восхищался, в ком черпал силы, чтобы показать, как губительна бездуховность.
* * *
О человеке разносторонних талантов в Польше говорят: «Его в колыбели поцеловала не одна муза». Применительно к Я. Ивашкевичу это означало бы, что над его колыбелью в маленьком украинском селе Кальник под Киевом, где он родился в польской семье, встретились Полигимния и Эрато, Мельпомена и Талия, Клио, Каллиопа и Евтерпа, покровительницы музыки, гимнической и лирической поэзии, трагедии и комедии, истории, эпоса и красноречия, опека которых сопутствовала их благодарному почитателю всю жизнь. Кроме литературы — практически во всем разнообразии её родов и жанров — Я. Ивашкевичу всегда оставались близки музыка и театр.
Музыкальная образность, неизменно присущая поэтическому слову Я. Ивашкевича, и в его прощальных стихах углубит трагедийность звучания «Аппассионаты» напоминанием о бетховенской теме рока, сообщит просветленно-элегический колорит «Последней песне странствующего подмастерья» — как бы стихотворному финалу, дописанному поэтом к любимому им вокальному циклу Густава Малера «Песни странствующего подмастерья».
Интересны и содержательны высказывания такого знатока и ценителя искусств, как Я. Ивашкевич, о явлениях и людях, представляющих литературу, музыку, театр, живопись. В «Беседах о книгах», которые на протяжении двадцати лет, вплоть до своих последних дней писатель вёл со страниц газеты «Жиче Варшавы» с самой массовой аудиторией, им отведено основное место. Со скромностью всякого истинно большого человека Я. Ивашкевич говорил: «Эти мои «беседы» я веду не как критик (и уж тем более не как председатель Союза литераторов), а как обычный читатель. Я рассказываю в них о прочитанном и о том, что подумалось мне в связи с прочитанным».[9] Вобрав в себя черты читательского дневника, рецензии, эссе, автобиографического, мемуарного, путевого или публицистического очерка, они покоряют своей непосредственностью и доверительностью. Избранные «беседы» Я. Ивашкевича, имеющие в ряду своих героев как писателей, так и композиторов, выдающихся исполнителей, особенно ценны для нас его пристальным интересом к событиям и фактам русской и советской культуры.
И в художественной прозе польского писателя искусство (прежде всего музыка) нередко предстает силой, активно вторгающейся в духовную жизнь его героев, воздействие которой знаменует поворотный момент психологического развития действия.
Роль музыки существенна и в последнем крупном прозаическом произведении Я. Ивашкевича — рассказе «Тано», идейно-эстетическое содержание которого раскрывается в противоборстве мировоззрений, проявляющемся в первую очередь как столкновение двух трактовок творчества Рихарда Вагнера — националистически извращенной и гуманистической.
Расценивая свое сочинение как «рассказ... не исторически достоверный», а «фантастический или сюрреалистический... Это сон, приснившийся мне на берегу реки Нерли», автор, думается, стремился подчеркнуть условную, притчевую природу этой вещи, где в допущениях своеобразной «поэтики сна» становится возможной дискуссия между старым музыкантом Генрихом Альтгаузом и пленным фашистским генералом Петрусом о создателе «Кольца нибелунга». Хотя писатель подчеркивал, что произведение не носит строго реалистического характера, атмосфера старорусской архитектуры и культуры нынешней заповедной зоны нашего «Золотого кольца» важна для повествования (это обозначено точным указанием автора на место действия — «250-й км Ярославского шоссе»). Тут в уединении живет фортепианный педагог профессор Генрих Альтгауз, к которому перед международным конкурсом пианистов во Флоренции приезжает его сын Казимеж. Их образы унаследовали отдельные черты ныне покойных советских мастеров пианизма Генриха Густавовича и Станислава Генриховича Нейгаузов, но, с другой стороны, Альтгаузы — вовсе не реальные Нейгаузы, а персонажи «сна», прихотливо размывающего и деформирующего контуры прототипов.
События происходят после Великой Отечественной войны, и в числе действующих лиц — бывшие немецкие военные, генерал и его адъютант Хайнц, получившие разрешение вернуться из плена в Германию. Хайнц любит художницу — реставратора старинного монастыря Ангелину, и открывшаяся ему русская душа, полная благородства и сострадания, весь трагический опыт войны делают невозможным его возвращение в мир, отравленный духом насилия и шовинизма (генерал зовёт его поселиться во Франкфурте-на-Майне). Человек, у которого внутри «всё выжжено войной», Хайнц ненавидит фашизм в любых его проявлениях, включая идеологию пангерманизма, воплощенную для генерала в соответствии с официальной гитлеровской доктриной в творчестве Р. Вагнера (своему псу адъютант дал кличку Тано, понимаемую как уменьшительное и ироничное преобразование имени главного героя «Кольца нибелунга» верховного бога Вотана, что раздражает Петруса). Отвергая «страшный мир», ответственность за преступления которого он ощущает как немец и солдат вермахта, Хайнц в финале рассказа умерщвляет верного пса (так как тому не пережить смерти хозяина), а затем себя.
Беседы героев, встречи немцев, поляков и русских в доме Генриха Альтгауза превращаются в страстные споры о музыке, поэзии, искусстве, где вспоминаются имена и творения Данте, Шумана, Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Льва Толстого, Блока, Ахматовой... Реплика немецкого генерала: «Романтизм — отжившая форма мышления» вызывает решительное возражение Альтгауза-отца: «Если бы не романтизм нашего мышления, последняя война выглядела бы совсем иначе». Это очень «ивашкевичевская» фраза — ведь для него подлинная традиция романтизма означала связь с эпохой Мицкевича и Словацкого, с эпохой ярчайшего расцвета национального искусства, проникнутого идеями патриотической гражданственности, активностью утверждения жизни как борьбы, одушевлённого великой любовью к людям.
Сочувствие человеку, духовное обогащение его, гуманизм — вот что определяет, по мысли Я. Ивашкевича, величие художественного творчества, в том числе и наследия Вагнера, так по-разному воспринимаемого персонажами рассказа. Знаменитая фраза Рихарда Вагнера: «Если мы вообразим в руках нибелунга вместо рокового кольца биржевой портфель, то получим законченную картину страшного образа призрачного владыки мира» без труда прочитывается в подтексте реплики: «Кольцо нибелунга стало причиной тысячи несчастий немецкого народа», произнесенной Генрихом Альтгаузом как ответ гитлеровскому генералу — лже-Зигфриду, одному из исполнителей преступного плана установления мирового господства Вельзунгов.
Искусство возвращается в жизнь, которой оно порождено, окрашиваясь, обогащаясь теми «обертонами» индивидуального восприятия, какие привносят в него жизненный и духовный опыт человека,— поэтому марш из «Гибели богов» мог стать для врача Юлии Яковлевны и полюбившего ее Сергея «символом весны», оставаясь для фашистского генерала гимном арийскому духу. Неприемлемость узкодоктринёрской (в том числе замкнуто-профессиональной, элитарно-снобистской) трактовки искусства, утверждение его места не над жизнью, а в неразрывном союзе с нею — одно из сокровенных убеждений Я. Ивашкевича, ярко и сильно выраженное в «Тано».
Ярослав Ивашкевич был человеком с немалым театральным опытом — актер любительской, а позднее и профессиональной сцены (в пору своей работы в Киевском польском театре «Студия», руководимом известной актрисой Станиславой Высоцкой, где он в 1916 г. стал заведующим литературной частью), затем литературный руководитель театра Польского в Варшаве, автор многих сценических произведений разных жанров, пьес «Каждый», «Любовники из Вероны», «Восстановление Блендомежа», «Космогония», «Июньская ночь», а прежде всего своеобразного драматического триптиха о судьбах великих людей мировой культуры, остающегося в постоянном репертуаре польских театров: «Лето в Ноане» (о Ф. Шопене), «Маскарад» (об А. С. Пушкине) и «Свадьба господина Бальзака». Он мог бы с полным правом сказать о себе словами А. Блока: «Театр — близкая и родная для меня издавна стихия». Мемуарно-критический очерк «Театральные путешествия», содержащий впечатления писателя от знакомства с украинским, русским и польским драматическим искусством, эссе «Натали и Александр» (воспоминания автора о первой постановке «Маскарада» на варшавской сцене), некоторые разделы «Путешествий в Италию» знакомят читателя с Ивашкевичем-театралом и театроведом, энтузиастом-профессионалом и этого великого искусства.
Говоря о Кароле Шимановском: «Его творческая индивидуальность была особенно податлива к различным воздействиям эстетического характера, встретившиеся ему в жизни скульптуры, картины, стихи задевали струны его души, вызывая быстрый музыкальный отклик...»,[10] его соавтор по «Королю Рогеру»,[11] несомненно, рисовал очень близкую себе художественную натуру. «Поэзия культуры», мастером которой стал зрелый Ивашкевич,— это не только талантливая стилизация, воссоздание той или иной индивидуальной творческой манеры, но прежде всего выражение личного отношения автора к описываемому явлению или произведению искусства. Это, например, своеобразные «стихи-эссе», где воспроизводится настроение, колорит музыкального сочинения («Сады под дождем» Клода Дебюсси в стихотворении «Непогода», «Источник Аретузы» К. Шимановского в одноименном стихотворении) или картины живописца («Лука Синьорелли», «Квентин Массис», «Брейгель», «Анри Руссо») и дается их трактовка поэтом. Эти произведения пробуждают интерес читателя к искусству в его разнообразных проявлениях, дают новые знания, а их особенное обаяние для подготовленного человека — в возможности сопоставить собственное впечатление от художественного творения с точкой зрения писателя. Разносторонность эстетической натуры Я. Ивашкевича, его горячий интерес к смежным и дополняющим искусство слова видам творчества породили такую редчайшую особенность, как слиянность, неразрывность изобразительного, музыкального и философского начал в его художественном наследии.
Многообразие путей и приёмов познания жизни, человека и истории, выражающее суть ярко индивидуальной и цельной творческой личности, — вот, пожалуй, доминанта выдающегося и неповторимого дарования Ярослава Ивашкевича.
Советский читатель имел возможность получить достаточно широкое представление о творчестве Я. Ивашкевича, этого большого мастера европейской литературы: ещё при жизни писателя в нашей стране вышло 8-томное собрание его сочинений, не раз издавались избранные произведения писателя, его национальная эпопея «Честь и слава». Обширную телевизионную, театральную и киноаудиторию имели у нас постановка театром им. Е.Б. Вахтангова пьесы «Лето в Ноане», польские фильмы - экранизации его произведений («Мать Иоанна от Ангелов», «Березняк», «Панны из Вилько» и другие).
Настоящее издание — ещё одна дань памяти писателя, сказавшего в 1977 г. в Софии при вручении ему Вапцаровской премии: «Чем лучше мы знаем друг друга, тем сильнее наша сплочённость Глубоко проникая в процессы, характеризующие культуру братских народов, мы таким образом укрепляем дружбу, дороже которой нет ничего на свете».[12]
1987 г. М.П.МАЛЬКОВ
[1] Вступительная статья в книге: Ивашкевич Я. Избранное. Л.: Художественная литература, 1987.
[2] Перевод А. Кушнера.
[3] Iwaszkiewicz J. Wiersze. Warszawa: Czytelnik. 1977. Т. I. S. 7.
[4] Iwaszkiewicz J. Hilary, syn buchaltera. Warszawa: Czytelnik. 1975. S. 115
[5] Iwaszkiewicz J. Wiersze. Warszawa: Czytelnik. 1977. Т. I. S. 7.
[6] Iwaszkiewicz J. Proza poetycka. Warszawa: Czytelnik. 1958 S. 333.
[7] Е1еutеr. Listy do Felicji. Warszawa: Czytelnik. 1979. S. 184.
[8] Павличко Д. Уклiн Я. Iвашкевичу // Iвашкевич Я. Твори. Киiв: Днiпро. 1979. С. 10.
[9] Książki о pisarzach // Życie Warszawy. 1965. 12 wrześn.
[10] Jarosław Iwaszkiewicz. Warszawa. 1968. S. 87
[11] Опера К. Шимановского на либретто Я. Ивашкевича.
[12] Народна култура. 1977. 18 март.