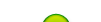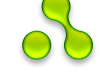ПЕТЕРБУРГ А. МИЦКЕВИЧА И ВАРШАВА АЛ. БЛОКА
ПЕТЕРБУРГ А. МИЦКЕВИЧА И ВАРШАВА АЛ. БЛОКА
Эссе о Мицкевиче в своей книге «Петербург» (1977) последний по времени классик польской литературы Ярослав Ивашкевич (1894 – 1980) завершил словами: «Думаю, что о Мицкевиче в Ленинграде должен напоминать хотя бы какой-то скромный памятник. Ведь это и его город. Hic natus est Conradus».[1]
Фраза из пролога дрезденских «Дзядов» (1832)[2] — «Густав умер, здесь родился Конрад», знаменующая собой преображение, перерождение героя (во многом автобиографического) виленско-ковенских страниц великой «драматической поэмы» — Густава, погружённого в переживание трагедии «святой и поруганной любви», в мятежного тираноборца Конрада, готового принести себя в жертву ради дела освобождения родного народа (то же имя носит и центральный герой «Конрада Валленрода», ставшего главным произведением русского периода творческой биографии создателя «Пана Тадеуша»), выступает у Ивашкевича как итог и метафорическое воплощение темы «Петербург А . Мицкевича». Именно здесь покоряющий кипением жизненных и творческих сил, обаянием молодости, остроумием и душевным здоровьем пан Адам, каким он был в первый приезд на берега Невы в 1824 году, пережил ту страшную драму — крах выступления декабристов, с которыми связывалась единственная надежда на возможность бескровного, политического решения польского вопроса, гибель на виселице Рылеева и других единомышленников-друзей, с кем он, как напишет позднее в «Отрывке» из «Дзядов», «по-братски обнимался»; драму, оставившую незаживающие рубцы на его сердце, сделавшую в его глазах Петербург зловещим символом деспотии и произвола, каким он предстает в III части поэмы.

В созданном позднее «Пане Тадеуше» (1834), окрашенном в ностальгические тона воспоминаний о минувшей молодости и покинутой навсегда отчизне, Peterburk вспоминает перезрелая кокетка Телимена, рисуемая автором в иронично-насмешливом духе (и это единственное у Мицкевича изображение невской столицы в пастельных красках):
Byłam ja w Peterburku nie raz, nie dwa razy!
Miłe wspomnienia! Wdzięczne przeszłości obrazy!
Co za miasto! Nikt z Panów nie był w Peterburku?
Chcecie może plan widzieć? Mam plan miasta w biurku.
Latem świat petersburski zwykł mieszkać na daczy,
To jest w pałacach wiejskich (dacza wioskę znaczy).
Mieszkałam w pałacyku, tuż nad Newą rzeką,
Niezbyt blisko od miasta i niezbyt daleko,
Na niewielkim, umyślnie sypanym pagórku.
Ach, со to był za domek! plan mam dotąd w biurku.[3]
Ах, Петербург! Я там не раз, не два гостила!
Приятно вспомнить мне! Как там прелестно, мило!
Ах, что за город! Кто-нибудь из вас бывал в столице?
План города в моем бюро до сей поры хранится.
Там летом знать и те, что побогаче,
За городом живут (по-ихнему, на даче).
Жила на даче я, ни близко, ни далёко
От города. Под домом — холмик невысокий,
Насыпанный старательно людьми. Внизу Нева струится.
Ах, что за домик был! План тоже у меня хранится.
Дальше Телимена вспоминает любимую собачку, «дар князя Сукина — болонку белой масти». Упомянутый князь казался мне прежде обладателем фамилии, которая из-за популярности в русском и польском оборота «сукин сын» была, так сказать, творческой находкой Мицкевича, тем более, что в комментариях к русскому изданию «Пана Тадеуша» говорится: «Князь Сукин — вымышленное (с юмористической целью) имя».[4] Мнение это поколебала статья пушкиниста Ильи Фейнберга, в которой приводится извлечение из документа Государственного Совета Империи от 20 октября 1824 года: «По предложению адмирала Мордвинова, большинством голосов полагается казнь кнутом отменить. Три члена Совета — братья Лобановы и князь Сукин полагают не отменять» [5] 25 октября того же года Мицкевич по приговору новосильцевского суда покинул Виленский край и прибыл во «внутренние губернии» России, где, весьма вероятно, поинтересовался газетными новостями, впоследствии дав своей Телимене в друзья и покровители этого «заступника кнута и плети».
В «Дзядах» 1832 года, посвящённых «святой памяти мучеников за народное дело» (5), филаретов Яна Соболевского, Циприана Дашкевича, Феликса Колаковского, где звучит присяга поэта:
Jeśli zapomnę о nich, Ту, Boże na niebie,
Zapomnij о mnie! (36).
Коль о них забуду, Ты, Бог на небе,
Обо мне забудь! —
столица самодержавной России выглядит, воспользуемся знаменитыми словами Достоевского, как «самый умышленный город»:
Nie chcieli ludzie — błotne okolice
Car upodobał, i stawić rozkazał
Nie miasto ludziom, lecz sobie stolicę;
Car tu wszechmocność woli swej pokazał. (180).
Люди не хотели — болотную землицу
Царь выбрал сам. Велел он возвести
Не город для людей, а лишь себе столицу,
Всесильем царским всё сметая на пути.
Имя «фантастического реалиста» Достоевского припомнилось здесь не случайно. Как пишет Я. Ивашкевич, «картины северной столицы (в "Отрывке" из "Дзядов") мрачны и страшны, с ними могут соперничать лишь описания Петербурга у Достоевского ("Петербургские сновидения в стихах и прозе")», это «Петербург кошмаров, напоминающих призраки Гойи, где-то на грани реальности и фантасмагории, сатанинского наваждения»:[6]
Ale kto widział Petersburg, ten powie,
że budowały go chyba Szatany (181).
Кто видел Петербург, тот повторит за мной:
Должно быть, город сей построен сатаной.
Право Мицкевича заклеймить позором царскую деспотию, расправлявшуюся с лучшими сынами своего и других народов, признавали многие истинные русские демократы. Среди них В.Белинский, сказавший: «Мицкевич — благородный и великий поэт, имеющий священное право оплакивать падение того, что дороже ему всего в мире — его родины, его отечества» (письмо к Боткину 1840 года).[7]
«Поэт и человек бесстрашной искренности», как назвал Ал. Блока М. Горький,[8] художественно претворил мицкевичевские образы и интонации дрезденских «Дзядов» в своей «варшавской» поэме «Возмездие». По свидетельству прекрасного знатока жизни и творчества Блока, польского поэта и переводчика Адама Галиса, в книжном собрании автора «Двенадцати» был четырехтомник сочинений Мицкевича на языке оригинала (в бытность свою студентом историко-филологического факультета Петербургского университета Блок изучал польский, сдавал зачёт по нему Яну Бодуэну де Куртене).[9]
 Отношение Блока к польскому вопросу претерпело по мере его духовного и идейного мужания, по мере знакомства с истинным положением народа, порабощённого русским самодержавием, с историей его борьбы за независимость разительную перемену — от язвительных высказываний об «освободительной истерике польской литературы» до глубокого сочувствия к судьбе многострадальной Польши, «созревания гнева» против царского режима, угнетавшего все народы России.[10]
Отношение Блока к польскому вопросу претерпело по мере его духовного и идейного мужания, по мере знакомства с истинным положением народа, порабощённого русским самодержавием, с историей его борьбы за независимость разительную перемену — от язвительных высказываний об «освободительной истерике польской литературы» до глубокого сочувствия к судьбе многострадальной Польши, «созревания гнева» против царского режима, угнетавшего все народы России.[10]
Начиная работу над «Возмездием» (1909), собирая материалы по повстанческой эпопее поляков, он делает выписки из разных источников; фиксируя подавление январского выступления 1863 года Муравьевым-«вешателем», записывает: «Под страхом денежных штрафов женщины сняли траур и облеклись в цветные наряды. К 1 мая повстанье (так у Блока. — М. М.) — уничтожено!!!», поставив тут три восклицательных знака.[11]
В ключе этих негодующих восклицаний выдержано в поэме обращение к польской столице:
Не так же ль и тебя, Варшава,
Столица гордых поляков,
Дремать принудила орава
Военных русских пошляков?
Строки Блока явственно перекликаются со знаменитой репликой беседующего с будущим декабристом Михаилом Бестужевым (сцена у сенатора из III части «Дзядов») русского офицера:
Nie dziw, że nas tu przeklinają,
Wszak to już mija wiek,
Jak z Moskwy w Polskę nasyłają
Samych łajdaków stek (147).
Понятно, отчего нас проклинают,
Ведь уж минует сотня лет,
Как из Москвы к полякам направляют
Одних отпетых негодяев цвет.
Образ Варшавы в III главе блоковской поэмы, Варшавы, которая копит в подполье силы протеста и мщения царизму, невольно возрождает в памяти мицкевичевские фразы. Ср., например, у Блока —
Месть! Месть! — Так эхо над Варшавой
Звенит в холодном чугуне! —
и финал песни Конрада из 1-й сцены дрезденских «Дзядов»:
Tak! Zemsta, zemsta, zemsta na wroga,
Z Bogiem i choćby mimo Boga! (46).
Да! Месть, месть, месть врагу,
Иль с Богом, или вопреки ему!
Этот мотив бунтарского отречения от Бога звучит и в стихотворении Блока «На смерть младенца», названном Я. Ивашкевичем «Импровизацией Мицкевича в миниатюре».[12] Автор «Петербурга» отмечал: «Тот декабрь 1909 г. был для Блока полон значения. Он окончательно понял, что такое Польша и Варшава. Он обращался к Богу так же, как в стихотворении "На смерть младенца": «…забывший Польшу, Боже!». Это его стремление понять — как оно волнует!».[13]
В «Дзядах» («Отрывок») и «Возмездии» (варшавские сцены) — общий колорит, фон, передающий настроение оцепенения, страха перед разгулом деспотической силы, здесь торжествует губительная для всего живого лютая стужа:
Ро polach białych, pustych, wiatr szaleje,
Bryły zamieci odrywa i ciska,
Lecz morze śniegów wzdęte nie czernieje,
Wyzwane wichrem powstaje z łożyska
I znowu, jakby nagle skamieniałe,
Pada ogromne, jednostajne, białe (204).
Безумствует вихрь, в поле пусто, бело,
Метель глыбы снега повсюду швыряет,
И небо, и землю вокруг замело,
Но панцирем льда сей покров застывает,
Вновь, стужей охвачен, тот саван лежит,
Окрест всё безжизненно, глухо молчит.

Это была «Дорога в Россию», а вот подневольная Варшава у русского поэта в «Возмездии»:
Жизнь глухо кроется в подпольи,
Молчат магнатские дворцы,
Лишь Пан-Мороз во все концы
Свирепо рыщет на раздольи!
«Блуждая по чужому городу, Блок увидел в железной конструкции моста Кербедзя решётку царской тюрьмы ("Мост через Вислу — как тюрьма…") и, глядя на памятник Копернику на Краковском Предместье, по-своему прочёл затаённую думу великого поляка ("Коперник сам лелеет месть, склоняясь над пустою сферой…")».[14]
Наконец, после «Смотра войска» в «Дзядах» Мицкевича с горьким восклицанием автора —
Ach, żal mi ciebie, biedny Słowianinie! —
Biedny narodzie, żal mi twojej doli,
Jeden znasz tylko heroizm — niewoli (204).
Как жаль тебя мне, бедный славянин!
Бедный народ, как жаль твоей мне доли,
Один лишь знаешь героизм — неволи.
— не было, пожалуй, стихов (к тому же стихов русских), которые рассказали бы о «польской недоле» так пронзительно и страстно, как это сделал в «Возмездии» Александр Блок: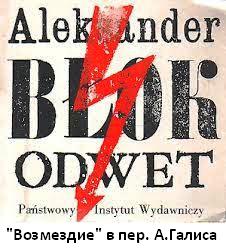
Страна — под бременем обид,
Под игом наглого насилья –
Как ангел, опускает крылья,
Как женщина, теряет стыд.
Безмолвствует народный гений,
И голоса не подаёт,
Не в силах сбросить ига лени
В полях затерянный народ.
В дрезденских «Дзядах» один из персонажей — Писатель говорит:
Sławianie, my lubim sielanki (105).
Славяне-братья, идиллии мы любим и объятья.
Любим, но и гордимся тем, что в каждой из наших культур нашлись поэты «бесстрашной искренности» (вспомним, как травила националистическая часть польской эмиграции Мицкевича за его добрые слова о друзьях-москалях, обвиняя в измене делу Польши[15]), которые выразили стыд, скорбь и гнев, видя, как между русскими и поляками встаёт «орава военных пошляков», «samych łajdaków stek». Помнить об опасности этого для народов России и Польши заповедали нам Адам Бернард Мицкевич, Александр Блок, Ярослав Ивашкевич.
1999 г.
[1] Iwaszkiewicz J. Podróże. Т. 2. Warszawa, 1981. S. 223. — «Здесь родился Конрад» (лат.) — Цитаты из главы «Петербурга», посвящённой Мицкевичу, привожу в собственном переводе, так как по-русски она (как и разделы о Пушкине и Виткации) доселе не опубликована. Как автор статьи «Польские мотивы в "Петербурге" Я. Ивашкевича» (Славянская филология. Вып. IV. Л., 1979. С. 168 – 177), в первоначальном варианте которой её материал обильно цитировался, знаю об одной из причин наложенного на публикацию запрета. Писатель между прочим посетовал на переименования улиц и площадей города, стирающие память об его истории. Проживи Я.Ивашкевич еще 10 с небольшим лет, он смог бы порадоваться возвращению на карту города Сенной, Гороховой, Миллионной, Большой Мещанской — названий, знакомых пану Адаму. Тогда же на полях машинописи я прочитал начертанное цензором: «Почему это поляк советует, как должны называться улицы Ленинграда и кому в нём ставить памятники?» — и читатели об этих размышлениях поэта, так любившего русскую культуру, не узнали.
[2] Mickiewicz A. Dziady. Cz. 111. Warszawa, 1984. S. 19. — Далее в тексте указываются страницы.
[3] Mickiewicz A. Pan Tadeusz. Warszawa, 1968. S. 60. — Поскольку в известном переводе С. Map (Аксёновой), опубликованном в собр. соч. А. Мицкевича (Т. 2. М., 1949), есть некоторые ощутимые отклонения от оригинала, автор статьи предлагает свою русскую версию фрагментов «Пана Тадеуша».
[4] Мицкевич А. Собр. соч. Т. 2. С. 311.
[5] Фейнберг И. «Заступники кнута и плети...» // Солнце нашей поэзии. М., 1989. С. 182.
[6] Iwaszkiewicz J. Op. cit. S. 217, 240.
[7] Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 12. М., 1957. С. 332.
[8] Цит. по: Орлов В. Н. Гамаюн: Жизнь А. Блока. Л., 1978. С. 669.
[9] Galis A. Osiemnaście dni Aleksandra Błoka w Warszawie. Warszawa, 1976. S. 69 – 73.
[10] Подробнее об этой радикальной эволюции взглядов Блока на Польшу см.: Мальков М. Ярослав Ивашкевич и Александр Блок. Л., 1988. С. 44 – 57.
[11] Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М., 1960. С. 454.
[12] Iwaszkiewicz J. Op. cit. S. 251.
[13] Ibid. S. 255.
[14] Galis A. Op. cit. S. 5
[15] Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli / Pod red. St. Pigonia. Warszawa, 1958. S. 307.