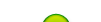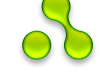«ЕЁ ПОЭЗИЯ НЕПОВТОРИМА...»
(Я. Ивашкевич об А. А. Ахматовой)
Классик польской литературы XX века, как по праву называют на родине и за её пределами Ярослава Ивашкевича (1894 — 1980), детство и юность которого прошли на Украине, рос и художественно формировался в эпоху, когда, по его словам, «поэтические течения в Польше и России взаимно переплетались, их притоки насыщались достижениями и открытиями соседей, и именно это сочетание встречных воздействий и влияний (Станислав Пшибышевский, Тадеуш Мичиньский, Анна Ахматова) породило поразительную поэтическую плодоносность того времени».[1] Переводчик В. Борисов, обычно опекавший Ивашкевича от Иностранной комиссии Союза писателей во время его неоднократных посещений нашей страны, запомнил слова польского литератора, что его «первые поэтические привязанности — это русские акмеисты» и что на него «большое влияние в раннем... творчестве оказали Блок, Мандельштам, Ахматова, Городецкий, Северянин, все те поэты, которые группировались вокруг „Аполлона”».[2]
В ряду этих мастеров русского стиха А. А. Ахматова (1889 — 1966) значила для Ярослава Ивашкевича особенно много, поскольку знакомство с её поэзией, как и с творчеством её польской современницы Казимеры Иллаковичувны (Иллакович, в кругу друзей — «Илла»; 1892 — 1980), названной им другой открывательницей «непредвиденных возможностей стихотворства»,[3] стало переломным моментом в его духовной биографии, о чем он вспоминал в «Посвящении», предпосланном поэтическому циклу «Круглый год»:
Głowę mą olśniewa
Blask tamtego lata:
Iłła i Achmatowa
Stoją jak dwa drzewa.
W esy i floresy
Niebieskie i rośne
Stoją na lewadzie
Klony-poetessy
Piękne i nieznośne.

Cień od nich się kładzie
Na papier i ręce,
Pełne srebrnych liści,
Na zeszyt, gdzie naprędce
Wiersz
Pierwszy szeleści.
Całe są w dziwactwach
I całe w radości
Jak te dnie: dnie ptactwa
Młodości.
Wilgi odplątuję
Z pajęczyny wierszy.
Nowe
Są jak pierwsze.
Dziękuję,
dziękuję —
Душу опять охватывает
Восторг того давнего лета:
Два деревца, Илла с Ахматовой,
Украсили мир поэта.
Их строфы-арабески
Так свежи и росны,
Встали над левадой
Клёны-поэтессы,
Чудны и несносны.
Тени их ложатся
На руки, бумагу,
Где ещё страница
Серебром блестит,
На тетрадь, где вскоре
Стих зашелестит.
Всё в них непривычно,
Всё в них — сама радость,
Как в тех днях, что нынче
Будят в сердце сладость.
Из паутины строчек
Иволг извлекаю.
Новые прекрасны,
Как те, что вспоминаю.
Как те, что так люблю.
Благодарю, благодарю.[4]
Об отклике поэтессы на «Посвящение» и обстоятельствах, сопутствовавших первой встрече с поэзией Иллаковичувны и Ахматовой, Я. Ивашкевич рассказал в эссе «Илла и Ахматова», опубликованном в 1965 г. на страницах «Жиче Варшавы»:
«Анна Андреевна, очевидно, читала эти строки, так как вскоре я получил от неё по почте томик её переводов с короткой надписью: „От одной из капризниц”. Она не только читала, но и верно поняла смысл слова „nieznośne”… Это был мой единственный непосредственный контакт с великой русской поэтессой.
«То лето» — это лето 1914 года, когда меня одновременно подхватили вихри поэзии и бураны истории… Мне как раз исполнилось 20 лет… Я писал уже тогда стихи и драмы и был сочинителем с многолетним опытом, хотя стихи слагались мной более или менее на детский манер, и вот тогда именно меня осенило. Осенило сознание, что повседневный мир можно увидеть и воспринять так, как его видела поэтесса, с которой мне никогда не довелось лично познакомиться и в которую я был влюблён в течение всей своей жизни. Её лучшие фотографии стоят на моём письменном столе. Как она была прекрасна! И как отважно говорила она о таких — вроде бы, обычных — вещах:
Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает…».[5]
В «Посвящении» Ивашкевича есть примечательное определение, которое было верно понято Ахматовой, но так смутило редактора советского издания его стихов Н. Я. Подольскую, что, как мне рассказывали в декабре 1988 г. в доме-музее писателя в подваршавском Стависко, она специально приезжала туда, чтобы свериться с оригиналом стихотворения и убедиться — там, действительно, поэтессы не только «чудны», но и «несносны». Думаю, это место как раз и свидетельствует о том, как польским писателем была изучена поэтика Ахматовой, ее самобытная художественная манера (у Ивашкевича здесь нет случайного — ведь, скажем, освобождаемые из паутины строк иволги часто «заключены» в стихах Иллаковичувны и Ахматовой, как и клёны, характерные для их поэтического пейзажа: например, у Ахматовой — «Иволги кричат в широких клёнах, // Их ничем до ночи не унять…» в стихотворении «Каждый день по-новому тревожен…» (1913), переведённом на польский именно автором «Круглого года»; у Иллаковичувны достаточно вспомнить название известного стихотворения «Pomiędzy sercem a klonowym liściem» («Меж сердцем и листом кленовым»).
Вероятно, само обращение к оксюморону, т. е. стилистическому обороту подчёркнутого соединения противоположностей, логически исключающих друг друга, продиктовано тут примером самой Ахматовой, у которой встречаем, скажем, «…в мире нет людей бесслёзней, // Надменнее и проще нас», «...ей весело грустить, // Такой нарядно обнажённой...», «Так прошло двенадцать лет, // Сладких и тяжёлых...» и т. д. (курсив мой. — М. М.). А автоироническая «несносность» поэтессы заявлена ею самой в словах стихотворения «Творчество» (цикл «Тайны ремесла»), ключевые строки которого «Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда...» отзываются в ивашкевичевском «Rośnie to jak grzyb» («Растет оно, как гриб»):
Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах всё быть должно некстати,
Не так, как у людей.
Влюблённость в Ахматову, в её поэтическое слово и вправду сопутствовала польскому писателю всю жизнь, поскольку в его последней, посмертно изданной книге стихов «Музыка вечером» её имя звучит вновь и как олицетворение лучшей поры жизни (стихотворение так и называется «Молодость»), и как воплощение глубоко исповедального творчества, далёкого от ухищрений профессиональной «игры в слова», хотя упоминаемые здесь Белла Ахмадулина и Вислава Шимборска были искренне ценимы поэтом:
Tyle pięknych poetek,
Szymborska, Achmadulina,
Zbierają sie, jak do gry
w domino,
I każda wpłaca się do puli па
Zielonym stole — aż przeminą...
A dla mnie jedna tylko jest:
Achmatowa.
Achmatowa to dwadzieścia
moich lat,
Wysoki klon, zielone okna.
To was
Nie dziwi chyba? Kochacie
młody las.[6]
Шимборска, Ахмадулина – прекрасных поэтесс
Немало знаю я. Древней, чем домино,
Игра в стихи, идущая за столиком чудес,
Где ставка — творчество и время сочтено…
Но для меня одна лишь есть: Ахматова.
Ахматова — мне снова двадцать лет,
Окно, высокий клён, стихи накатывают.
Что странного? Кто лес любви воспел,
Тот истинный поэт.
Конечно, «аура» счастливого времени юности, когда в Елисаветграде, Киеве, Саратове, Варшаве молодой польский поэт читал стихи Ахматовой, во многом объясняет то, как часто писатель и его литературные герои (г-жа Потапова в рассказе «Тени», Генрих Альтгауз в «Тано», Ариадна Тарло, цитирующая в романе «Честь и слава» строки: «Для моей умилённой души // Все твои слова хороши — // Ты стихов для меня не пиши, // Для моей умилённой души…») возвращаются памятью к её строфам, слышат в ней голос своего поколения. Как писал Ивашкевич: «Пожалуй, только в молодости так воспринимается поэзия, и только стихи, которые, как молитва, читаются, повторяются, произносятся в юности, оставляют глубокий след на отношении к жизни, к искусству. Первые стихи Ахматовой… — это и музыка, и аромат, ощущение молодости и тот особый трепет, который, если когда-нибудь потом и повторится, будет всего лишь повторением. И одновременно это открытие созвучий, некоего чувства близости — вне времени, вне языка, вне истории. Нечто глубоко, сокровенно человечное».[7]
Знаток и почитатель русской классической прозы Л. Толстого, Достоевского, Чехова, Бунина, которых ему доводилось переводить на родной язык и которым посвящены многие размышления писателя о жизни и литературе, Ивашкевич, естественно, ощутил то, о чем так верно сказал О. Мандельштам: «Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и богатство русского романа XIX века... Генезис Ахматовой лежит в русской прозе, а не в поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу».[8]
Показателем эстетической чуткости и глубины проникновения Ярослава Ивашкевича в творчество выдающейся поэтессы могут служить его наблюдения, так перекликающиеся по мысли с выводами крупнейшего советского исследователя её поэзии акад. В. М. Жирмунского, в работах которого «Мелодика стиха», «Преодолевшие символизм», «Анна Ахматова и Александр Блок» и др. выявлены такие характерные черты её стиля, как логический синтаксис поэтической речи, эпиграмматические словесные формулы, ударная роль последнего стиха, заключающего в себе отчётливое смысловое заострение основной темы (pointe), и т. д.[9] В 1973 г. польский писатель в традиционной для него рубрике «Беседы о книгах» в газете «Жиче Варшавы» отозвался рецензией «Новые целлофановые томики» на вышедшие в издательстве «PIW» книги стихов, среди которых был сборник Ахматовой:
«Этот волнующий, ласкающий и поражающий тонкостью стихотворства, а моментами потрясающий красотой и глубиной поэтического чувства томик — стихи Анны Ахматовой. Её поэзия неповторима: необычайная точность и зоркость видения, свобода образных ассоциаций, сочетающих внешне далёкие друг от друга понятия и вещи, создают в её стихах то внутреннее напряжение, ту специфическую интонацию „внутренней речи”, «innere Stimme», как называл это Роберт Шуман, по которой одну-единственную строчку Ахматовой распознаешь среди тысячи других. Здесь, несомненно, существует какое-то сходство и родство с другой необычной поэтессой — нашей М. Павликовской-Ясножевской. Недаром так великолепно звучат переводы стихов Павликовской, выполненные именно А. Ахматовой… Предельно сжатая мысль-развязка выступает тут как итог драматически уплотнённого действия. Иногда — как в сонетах Шекспира — последнее двустишие заключает в себе суть, квинтэссенцию всего стихотворения. Так неожиданно возникает эхо переклички между собой поэтов разных эпох и разных миров. Но ведь поэзия существует только одна, как одна бывает на свете любовь, смерть и морская волна. И, возможно, именно это — самое удивительное, о чём думаешь, читая... томики „целлофановой серии” издательства ПИВ — Шекспира и Ахматову».[10]
О том, как истинные поэты ощущают друг друга, может свидетельствовать удивительно созвучное словам Ивашкевича высказывание Марины Цветаевой: «Мне никогда не приходилось слышать, чтобы об Ахматовой или о Пастернаке кто-нибудь сказал: „Всегда одно и то же! Надоело!” — как нельзя сказать: „Всегда одно и то же” — о море, ведь, по словам того же Пастернака:
Приедается всё, лишь тебе не дано примелькаться,
Дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет…
Ибо и Ахматова, и Пастернак черпают не с поверхности моря (сердца), а со дна его (бездонного). Они точно так же не могут наскучить, как не может наскучить состояние сна, всегда одно и то же, со сновидениями всегда другими».[11]
В одном из писем 1961 г. к советской полонистке Ядвиге Станюкович Я. Ивашкевич писал, вспоминая недавние московские встречи: «…У Федина было хорошо, у него такой русский вид с балкона, с берёзками, елями и старой колокольней. Было хорошо и мило, как в стихах Ахматовой».[12] Польский поэт имеет здесь в виду ту атмосферу уюта и покоя, которая характерна для переведённых им стихов молодой Ахматовой, например, «Цветов и неживых вещей // Приятен запах в этом доме…» (1913).
Но Ярослав Ивашкевич знал и другие — трагические — дни и строки русской поэтессы, с великим достоинством сказавшей о себе: «Я была тогда с моим народом, // Там, где мой народ, к несчастью, был». Он понимал, каким преступлением против нравственности, совести и культуры являлось ждановское шельмование той, чьими устами блокадный Ленинград произнёс на всю страну: «Мы детям клянемся,, клянемся могилам, // Что нас покориться никто не заставит!», той, что, стоя с передачей для сына у стены Крестов (ленинградской тюрьмы), говорила: «И я молюсь не о себе одной, // А обо всех, кто там стоял со мною // И в лютый холод, и в июльский зной // Под красною ослепшею стеною...». Тем, «...кто над мертвым со мной не плачет, // Кто не знает, что совесть значит // И зачем существует она…», автор «Поэмы без героя» бросила:
За меня не будете в ответе,
Можете пока спокойно спать.
Сила — право, только ваши дети
За меня вас будут проклинать.
Эту Ахматову, представлявшую себе круги полярного ада лагерей, где был заточён её сын, знавшую, что означает, когда «…зажмут… измученный рот, // Которым кричит стомильонный народ…», вспоминал Ярослав Ивашкевич в стихотворении «Премия Таормина». Оказавшись вновь на творчески благодарной для него Сицилии в 1967 г. и думая о поездке поэтессы в Италию в декабре 1964 г. в связи с вручением ей литературной премии «Этна — Таормина» за год с небольшим до её смерти, он писал (впервые по-русски стихотворение прозвучало лишь в 1988 г. в переводе Б. А. Слуцкого[13]):
Anna Andrejewna była tutaj
przed samym końcem
jechała pociągiem z północy
był grudzień
przez śniegi ojczyzny
przez deszcze i błota Polski
przez obnażone łąki Karyntii
podróż wydawała się długa
prawie jak podróż syna
wszystko miała za sobą
na Sycylii było ciepło
kwitły róże
со oni wiedzieli о ojczyźnie Anny
о chłodach Carskiego Sioła
о panichidach za samobójców
о więzieniach о kołach polarnych
о światłach
О czym myślała tu Anna Andrejewna?
Czy myślała о tym strusim рiórze
które zawadzało о budę dorożki?
Анна Андреевна была здесь
перед самым концом
она ехала поездом с севера
был декабрь
сквозь снега отчизны
сквозь дожди и слякоть Польши
сквозь обнажённые луга Каринтии
дорога казалась долгой
почти как дорога сына
всё у неё осталось позади
на Сицилии было тепло
цвели розы
что они знали о родине Анны
о холодах Царского Села
о панихидах по самоубийцам
о тюрьмах о полярных кругах
о северных сияниях
О чём думала тут Анна Андреевна?
Думала ли о страусовом пере
которое задело о верх экипажа?
Это стихотворение, написанное в современной манере безрифменного, прозаизированного, свободного стиха без знаков интерпункции, к которому, наряду с традиционной версификацией, обращался поздний Ивашкевич, содержит в себе сгустки ассоциаций, что было правилом в творчестве последних лет жизни польского писателя (поэма «Азиаты», циклы «Старый поэт», «Карта погоды» и др.), конденсирует в скупых строчках большой материал, относящийся к художественному наследию и биографии Ахматовой, начиная со стихов 1913 г. («Прогулка», «Перо задело о верх экипажа, // Я поглядела в глаза его. // Томилось сердце, не зная даже // Причины горя своего…») и кончая завершённой в 1960-е годы «Поэмой без героя» с её горькими словами: «И открылась мне та дорога, // По которой ушло так много, // По которой сына везли…».
В некрологе, оглашённом в журнале «Твурчощь», польский поэт написал: «…Если жить и бороться порой нелегко, а стариться тяжело, то огромным утешением служит нам существование таких богатств, как поэзия Ахматовой. В ней — то единственное подлинное достояние, которое мы обретаем, заимствуя
Немного у жизни лукавой
И всё — у ночной тишины («Тайны ремесла»).
Она ушла в „ночную тишину”. Но мы помним о ней, помним обо всём, что она пережила как человек и поэт, и её творчество рождает у нас чувство искренней признательности».[14]
Эту благодарность Ярослав Ивашкевич выразил своими прекрасными переводами её стихов, посвящёнными любимой поэтессе страницами нескольких эссе и, наконец, теми «ахматовскими» стихотворениями, о которых здесь шла речь.
1989 г.
[1] Iwaszkiewicz J. Symbolizm // Życie Warszawy. 1976. 12 września. S. 6.
[2] Борисов В. Мои встречи с Ярославом Ивашкевичем // Воспоминания о Ярославе Ивашкевиче / Под ред. В. М. Борисова. М., 1987. С. 208.
[3] Iwaszkiewicz J. Iłła i Achmatowa // Życie Warszawy. 1965. 20 lipca. S. 5.
[4] Поскольку единственно опубликованные у нас переводы «ахматовских» стихотворений Я. Ивашкевича Бориса Слуцкого («Посвящение», «Премия Таормина») и Александра Кушнера («Молодость»), на мой взгляд, не слишком точны, нарушают поэтическую образность оригинала, его ритмико-мелодический и рифменный строй, а в «Таормине» не замечена прямая цитата из Ахматовой, автор публикации рискует предложить читателям свою русскую версию их звучания (цит. по: Iwaszkiewicz J. Wiersze. Warszawa, 1977. T. 2. S. 357).
[5] Iwaszkiewicz J. Iłła i Achmatowa.
[6] Iwaszkiewicz J. Muzyka wieczorem. Warszawa, 1980. S. 33.
[7] Iwaszkiewicz J. Anna Achmatowa // J. Iwaszkiewicz. Ludzie i książki. Warszawa, 1983. S. 200.
[8] Цит. по: Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973. С. 45.
[9] Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
[10] Iwaszkiewicz J. Nowe celofany // Życie Warszawy. 1973. 7. X. S. 5.
[11] Цветаева М. Собр. соч.: В 2 т. — Минск, 1988. Т. 2. С. 387 — 388.
[12] Воспоминания о Ярославе Ивашкевиче. М., 1987. С. 130.
[13] Ивашкевич Я. Собр. соч.: В 3 т. 1988. Т. 1. С. 397; Iwaszkiewicz J. Wiersze. Warszawa, 1977. T. 2. S. 473.
[14] Ивашкевич Я. Люди и книги. М., 1987. С. 122.