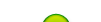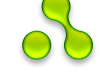БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ АННЫ АХМАТОВОЙ
И КАЗИМЕРЫ ИЛЛАКОВИЧУВНЫ
Библия христиан, подобно Корану мусульман, Торе и Талмуду иудеев, Ведам индусов и другим "священным писаниям", какими их веками почитают люди, является богатейшим кладезем мировой культуры, из которого черпают все искусства — изобразительные, музыкально-сценические, театральные, но более всего — искусство слова, литература. Недаром самым расхожим определением Библии стало название "Книга книг" (оно, понятно, имеет как иерархический, так и генетический смысл). С классическим совершенством стиха мысль эту выразила в своём знаменитом библейском[1] стихотворении "Кого когда-то называли люди // Царём в насмешку, Богом в самом деле..." А. А. Ахматова:
Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор — к смерти всё готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней — царственное Слово (1945).[2]
Русская и польская поэтессы, библейские стихи которых здесь рассматриваются, были людьми глубоко и искренне верующими. Для них Библия являлась настольной книгой, чему у А. Ахматовой мы находим прямое свидетельство:
Под крышей промерзшей пустого жилья
Я мертвенных дней не считаю,
Читаю посланья Апостолов я,
Слова Псалмопевца читаю.
Но звёзды синеют, но иней пушист,
И каждая встреча чудесней, —
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песне Песней (1915).[3]
Впрочем, для художника еще показательнее та библейская образность поэтического строя, которой проникнуты многие её строки:
Во мне печаль, которой царь Давид
По-царски одарил тысячелетья (1916).[4]
Но мотивация интереса к "Книге книг" тут наверняка многопричинна и особенно существенна в плане философии культуры, ведь, как мудро сказал в "Охранной грамоте" Б. Пастернак (сам, как известно, автор замечательных библейских стихов, в которых, по словам Ахматовой, "могучая евангельская старость и тот горчайший гефсиманский вздох..."[5]): "Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества... Всё вековечное жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие века... История культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причём этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же, каждый раз новым — актуальный момент текущей культуры".[6]
Сопоставить стихи на эту тему Анны Андреевны Ахматовой (1889 — 1966) и Казимеры Иллаковичувны (1892 — 1983) позволяет и то, что они были практически одногодками, современницами, имевшими сходный и весьма драматический (как у всех ровесниц нашего века, века войн и революций, века насилия и тоталитаризма) жизненный опыт, и общность их творческих позиций. Сказанное классиком польской литературы нашего времени Ярославом Ивашкевичем — "Стихи как зеркало: так Иллаковичувна конкретность всех вещей ласкает белым звуком..."[7] (т. е. показывает их в ауре символической многозначности) — вполне может быть отнесено к повенчавшей символизм и акмеизм, "преодолевшей символизм" (по определению академика В. М. Жирмунского)[8] А. Ахматовой.
Для Ярослава Ивашкевича именно знакомство с творчеством этих поэтесс летом I914 г. стало постижением самой сущности стихотворства (ахматовская ее формулировка — "свежесть слов и чувства простота"[9]), о чём он писал в стихотворении «Посвящение», адресованном своим наставницам в мире поэзии:
Głowę mą olśniewa
Blask tamtego lata:
Iłła i Achmatowa
Stoją jak dwa drzewa.
…………………………

Сałe są w dziwactwach
I całe w radości
Jak te dnie: dnie ptactwa
Młodości.[10]
Душу опять охватывает

Восторг того давнего лета:
Два деревца, Илла с Ахматовой,
Украсили мир поэта.
…………………………
Всё в них непривычно,
Всё в них — сама радость,
Как в тех днях, что нынче
Будят в сердце сладость.
А в эссе "Анна Ахматова", комментирующем эти строки, он говорил: "Пожалуй, только в молодости так воспринимается поэзия, и только стихи, которые, как молитва, читаются, повторяются, произносятся в юности, оставляют глубокий след на отношении к жизни, к искусству. Первые стихи Ахматовой, первые стихи Иллаковичувны — это и музыка, и аромат, ощущение молодости и тот особый трепет, который, если когда-нибудь потом и повторится, будет всего лишь повторением. И одновременно это открытие созвучий, некоего чувства близости — вне времени, вне языка... Нечто глубоко, сокровенно человечное".[11]
Очерк Я. Ивашкевича "Шёпотом" (1967) посвящён поздним стихам Иллы, как он по-дружески называл Иллаковичувну (прежде всего это цикл "Малые апокрифы", включающий стихотворения "Труд любви", "Каин и Авель", "Спасение", "Валаамова ослица", "Иов", опубликованный в журнале "Твурчощь" в год, когда не стало Анны Андреевны Ахматовой, — 1966), но размышления в нём, естественно, проецируются на зрелое творчество и его любимой русской поэтессы: "Мне всегда жаль молодых поэтов, переживающих муку, ибо они не знают, как выделиться среди прочих, как крикнуть так громко, чтобы этот крик был услышан в городском шуме, как записать свой голос, чтобы он дошел до людей. Ведь все они, даже самые отчаянные эгоцентрики, хотят что-то сказать брату-человеку… И потому такую радость доставляет мне поэт, который уже знает цену слову и стиху, ритму и рифме, а прежде всего — знает цену жизни. Знание это зиждется на самоограничении. Такие поэты умеют говорить шёпотом, но так, что, слушая их стихи, чувствуешь, как перехватывает горло... Не уступая искушению сказать "красиво", поздняя Иллаковичувна — при внешнем впечатлении "неискусности" — даёт ту точность, которая достигается мастерством, доведённым до предельной простоты, отказом от любых украшений и орнаментов... Наиболее художественным, волнующим и человечным является цикл "Малые апокрифы". Казалось бы, на библейские темы трудно сейчас написать что-либо новое. И как раз этот цикл более всего поражает своей новизной, своими неожиданными преображениями извечных тем". [12]
Говоря о том, что в поэзии и философии Иллаковичувны есть и резиньяция старости, примирённость с неумолимым гнётом обстоятельств, и "прозрачное чувство нравственной силы" (как это созвучно психологической полифонии такого ахматовского стихотворения, как "Здесь всё меня переживёт... "), Ивашкевич прежде всего имеет в виду начальное звено цикла "Малые апокрифы" — "Труд любви" ("Dzieło miłości") :
Wydobyć z niebytu
jak żyjątko z piasku,
Stłumić ciemnością,
oślepić blaskiem,
Zamknąć w czasie,
dać cel bezkresny...
Z tym człowiek sobie ma
radzić. Taki jest.[13]
Стать извлечённым из небытия
Микробом в жизни океане,
Познать кромешный мрак и нестерпимое сиянье,
Конечность времени и бесконечность цели...
Таков удел твой, человек.
Твоя судьба.
Любовь как основа истинной нравственности и насилие, к которому прибегает зло, чтобы одолеть доброту, — главная тема библейских стихов Иллаковичувны и Ахматовой. Этот извечный поединок морали и зависти, персонифицированных в образах Авеля и Каина ("Było nas dwóch braci na pustym globie" — "Двое было нас братьев в этом мире пустом..."), по Иллаковичувне, не завершается, ведь последние слова стихотворения:
Słaby silnego zabił...
То się powtarza...
I nie wiem dalej.
Тут слабым сильный был убит...
И это повторяется доныне...
А далее что будет — я не знаю.
Но долг поэта — так же упрямо, как "wizjonerka, oślica Balaama” ("пророчица, ослица Валаама"), предупреждать людей об опасности сорваться в пропасть бездуховности, безверия, "видеть ангела", верить в добро и будить его в людях, звать к нравственному очищению и совершенствованию.
Милосердие, сочувствие, преданность должны тронуть Бога, не допуская страшных финалов иных библейских легенд, — в этом апокрифичность, альтернативность некоторых сюжетных развязок у Иллаковичувны. Так, в "Спасении" Авраам не совершает заклания агнца вместо предназначенного в жертву своего сына Исаака, а спускается с ними с горы в цветущую долину:
Ojciec Izaaka na osiołka wsadził,
Głaskał паs obu i było święto.
Исаака на ослика отец посадил,
И ласкал нас сердечно, и радость нам подарил.
Бескорыстие любви (такой, как любовь верного пса к человеку в "Иове") становится высшим мерилом истинно святого, христианского и нравственного чувства:
Ten Job — nie wiedzieć, kto zacz: koczownik, może nawet Beduin? —
po ciężkiej próbie jako mocarz wstał z ruin:
nowych miał stad mrowie,
żon i synów nie zliczy najbieglejszy człowiek,
a z przyjaciół i sług
pułk wystawić mógł.
Tak tedy, jak za dawnej jego wspaniałości,
każdy mu kadził i każdy zazdrościł.
On jednak, zapytywany, kto mu jest najmilszy,
chwiał głową, uśmiechał się i milczał.
A ręką, która dawno odwykła od pracy,
łeb Burka kudłatego głaskał i obracał,
kundla, со kości teraz najtłustsze ogryza,
wtedy zaś samotnemu ropne rany lizał.
Иов (кто, собственно, он был — кочевник, бедуин?),
Страданий чашу всю испив до дна
И властелином вновь поднявшись из руин,
Обрёл опять жён, сыновей и тучные стада.
Из новых же друзей, давать готовых в долг,
Он выставить бы мог теперь уж целый полк.
И, как тогда, в былого счастья пору,
Ему кадили, славословили все хором.
Но на вопрос, кто всех ему дороже,
Он улыбался лишь, качая головой,
И мягкой, белой, нежною рукой
Всё гладил морду пса, что на рогоже
Теперь раскинулся и кости обгрызал,
А в дни беды, один оставшись с ним,
Хоть голодом, тоской и жаждою томим,
Гноящиеся раны Иова лизал.
То же самоограничение, о котором говорит Ивашкевич применительно к "Малым апокрифам", демонстрирует Ахматова в своём библейском цикле, какой, понятно, мог бы иметь аналогичное со стихами Иллаковичувны название, поскольку и здесь канонический текст священного писания имеет лишь инспирирующую силу. Для обеих поэтесс характерно не иллюстрировать стихами драматические перипетии мифов о величии, падении и возрождении Иова, о коварных происках отца Рахили Лавана ("Рахиль" Ахматовой — ее своеобразная "Песнь Песней", рождённая библейской строкой редкой поэтической силы: "И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил её" (Книга Бытия. 29, 20), что так гармонично перелилась в ахматовскую фразу: "Рахиль! Для того, кто во власти твоей, // Семь лет — словно семь ослепительных дней"[14]) или сделавшего свою дочь орудием опасной интриги царя Саула ("Мелхола"), а сконцентрировать суть фабульного мотива в характеристике психологического состояния героя, позволяющей уяснить движение, развитие чувств, предваряющих или объясняющих его поступки. Тут уместно вспомнить ценное наблюдение Н. Коржавина, что стихи Ахматовой «окрашены естественным и привычным религиозным чувством, но перед нами — поэт, а не проповедник».[15]
Так, из книги В. Виленкина "В сто первом зеркале" мы знаем, что Анна Андреевна, отталкиваясь от библейской фразы — "Но Давида полюбила... дочь Саула, Мелхола. ...Саул думал: отдам её за него, и она будет ему сетью" (Первая книга Царств, 18, 20 — 21), — первоначально задумывала балладу с драматическим сюжетом: героиня спасает своего юного супруга Давида от убийц, подосланных жестоким Саулом, но затем ограничилась внутренним монологом Мелхолы, в котором накал любовной страсти мотивирует её последующее самоотвержение.[16]
Апокрифичность лучшего библейского стихотворения Ахматовой, "Лотовой жены" (одного из любимейших во всей русской лирике созданий для такого знатока и мастера интерпретации поэзии, каким был В. И. Качалов[17]) , заключается в психологизации и поэтизации персонажа, которому в Библии уделена лишь одна глухая строка в Книге Бытия (19, 26): "Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом" (исследователи, и среди них видный польский историк и толкователь Библии Зенон Косидовский,[18] утверждают, что фраза эта привнесена в позднейшую редакцию, дабы объяснить существование в окрестностях Содома столбов соли, отдалённо напоминающих человеческие фигуры). Вариация античного мифологического мотива (Орфей и Эвридика) в библейском тексте (наказание за нарушение Господней воли) послужила созданию едва ли не самых гуманистически страстных и волнующих своей человеческой пронзительностью строк великой русской поэтессы, посвящённых центральной в её творчестве теме памяти — совести:
И праведник шёл за посланником Бога,
Огромный и светлый, по чёрной горе.
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь ещё посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.
Взглянула — и, скованы смертною болью,
Глаза её больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.
Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце моё никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.[19]
Два больших поэта славянского мира — А. Ахматова и К. Иллаковичувна — своим прикосновением сердцем и талантом к "Книге книг" показали, как творчески плодоносна и нравственно целительна древняя мудрость в убранстве высокого художественного слова и в наши дни.
1993 г.
[1] Собственно «Библейскими стихами» А.Ахматова называла лишь свой триптих, включающий «Рахиль», «Лотову жену» и «Мелхолу», но в широком, типологическом плане многие её поэтические сочинения отвечали бы такому наименованию.
[2] Ахматова А. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 303.
[3] Там же. С. 83.
[4] Там же. С. 95.
[5] Ахматова А. Собр. соч. Т. 1. С. 252.
[6] Пастернак Б. Охранная грамота. Шопен. М., 1989. С. 60.
[7] Ивашкевич Я. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1988. С. 76. (Перевод Д. Самойлова).
[8] Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 106.
[9] Ахматова А. Собр. соч. Т. 1. С. 81.
[10] Iwaszkiewicz J. Wiersze. Warszawa. 1977. T. 2. S. 357 (здесь и далее перевод мой — М. М.).
[11] Iwaszkiewicz J. Anna Achmatowa // J. Iwaszkiewicz. Ludzie i książki. — Warszawa, 1983. S. 200.
[12] Iwaszkiewicz J. Szeptem // Ludzie i książki. Warszawa, 1983. S. 232.
[13] Iłłakowiczówna K. Małe apokryfy // Twórczość. 1966. № 4. S. 47 — 48. Не переведённые доселе на русский язык «Малые апокрифы» могут быть представлены здесь лишь в версии, которую рискует предложить автор публикации. — М. М.
[14] Ахматова А. Собр. соч. Т. 1. С. 152.
[15] Коржавин Н. Анна Ахматова и «серебряный век» / / Новый мир. 1989. № 7. С. 260.
[16] Виленкин В. В сто первом зеркале. М., 1990. С. 126.
[17] Там же. С. 18.
[18] Kosidowski Z. Opowieści biblijne. Warszawa, 1983. S. 483.
[19] Ахматова А. Собр. соч. Т. 1. С. 153.